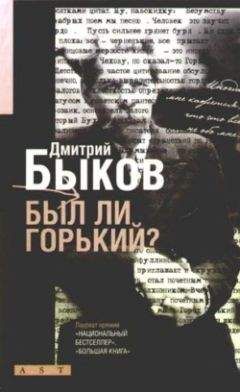Ознакомительная версия.
14
Мы переходим сейчас к одной из самых спорных и запутанных тем в горьковской биографии – запутанных нарочито, а на деле весьма простых. Речь идет об убийстве сначала его сына Максима, работавшего в НКВД, а затем и самого Горького. Обе эти версии, превращающие реальность в кровавую шекспировскую драму, не имеют под собой никакой почвы, даром что высказывались любителями кровавых фабул бессчетное количество раз. Сталину для процесса над троцкистско-зиновьевским блоком понадобилась версия об убийстве Буревестника неправильно лечившими его врачами. Разоблачителям Сталина потребовалась версия об убийстве Горького Сталиным – разумеется, при помощи страшного чекистского яда. Бытует также версия о том, что Горького по приказу Сталина отравила Мария Будберг, с которой у писателя с 1934 года были чисто приятельские отношения, но в СССР она продолжала наезжать и успела посетить умирающего писателя. Она-то, оставшись с ним наедине на сорок минут, якобы и дала ему то ли отравленную конфету, то ли ядовитую таблетку. Всем этим версиям несть числа, и весьма жаль, что люди, никогда толком не читавшие Горького и ничего о нем не знающие, интересуются лишь этим аспектом его богатой биографии. Случилось же вот что. На майские праздники 1934 года на даче Горького в Горках, где он обычно проводил время с мая по сентябрь, собралось множество народу, в том числе «красный профессор», советский философ, специалист по диамату и оргсекретарь Союза писателей Павел Юдин, по совместительству спортсмен, морж, любитель крепких напитков и большой друг Максима Пешкова (сближали их спортивные увлечения, автомобили и упомянутые напитки). С бутылкой коньяка они пошли к Москве-реке, бутылку эту там распили и прямо на земле заснули. Юдин проснулся, Пешкова будить не стал и пошел наверх, а Максим еще час проспал на холодной земле и на следующий день слег с воспалением легких. Может быть, его удалось бы спасти, если бы регулярно бывавшие в доме Горького профессора Плетнев и Сперанский не враждовали между собой: Максим просил позвать Сперанского, Плетнев продолжал лечить по собственному методу, а когда в последнюю ночь Максима за Сперанским все-таки послали и попросили сделать блокаду по его методу, он сказал, что уже поздно. В последнюю ночь Максима, с 10 на 11 мая 1934 года, Горький сидел внизу, на первом этаже дачи в Горках, и беседовал со Сперанским об институте экспериментальной медицины, о том, что надо сделать для его поддержки, о проблеме бессмертия. О Максиме не говорили. Когда в три часа ночи к Горькому спустились сказать, что Максим умер, он побарабанил пальцами по столу, сказал: «Это уже не тема», – и продолжил говорить о бессмертии. Можно назвать это признаком железной целеустремленности и величия, можно – душевной глухотой, а можно – панической растерянностью перед лицом трагедии. Павел Басинский вспоминает, что, узнав в Америке в 1906 году о смерти от менингита дочери Кати, Горький пишет покинутой им жене письмо, в котором требует беречь сына и цитирует собственный, сочинявшийся тогда же роман «Мать» – о том, что нельзя бросать своих детей, свою кровь. Это уже вопиющая нравственная глухота – утешать скорбящую мать, вдобавок брошенную им ради новой жены, цитатой из собственного сочинения. Впрочем, всегда найдутся люди, которым глухота как раз и кажется признаком истинного величия, сосредоточенности на единственно важном в ущерб личному и преходящему.
Смерть Максима, однако, подкосила Горького – это был уже второй его ближайший родственник по имени Максим, причиной смерти которого он себя чувствовал, и не без оснований. Сначала он заразил холерой своего отца – и эта вина без вины стала проклятием всей его жизни, ибо губить людей вокруг себя суждено ему было и в дальнейшем. Почти все его окружение после его смерти тоже погибло, и почти все близкие к нему люди были обвинены в его гибели. Теперь, за два года до смерти, в старости, он становился причиной гибели собственного сына, тоже Максима, и тоже без вины: формально Максима погубила случайность, но на деле он чуть ли не с рождения был заложником отцовской славы и отцовского образа жизни. Он бывал у Горького на Капри, постоянно жил у него в Сорренто в двадцатые, а в тридцатые, будучи давно женат, так и не зажил отдельным домом. (Бытовала крайне нелестная для Горького версия о том, что у писателя был тайный роман с женой Максима Надей Введенской, известной под домашней кличкой Тимоша; версия эта, по всей видимости, восходит к горьковскому рассказу «На плотах». Романы с чрезвычайно обаятельной и легкомысленной Тимошей приписывались многим людям из горьковского окружения – в частности, Ягоде.) Максим всегда находился в тени отцовской славы: унаследовав от отца обаяние и артистизм, он, по свидетельству Ходасевича, оставался вечным ребенком, был поверхностен, легкомыслен, инфантилен, инстинкт самосохранения был у него снижен – он многажды попадал в аварии на горьковском автомобиле, обожая гонять на предельной скорости, – и, в общем, ни его образованием, ни воспитанием Горький систематически не занимался. Он шутя грозился навести порядок в доме, но все это оставалось разговорами. Он чувствовал себя ответственным за беспутную жизнь и случайную, бестолковую смерть Макса – но в ней ему почудилось предвестие и собственной гибели. Отец Максим и сын Максим ушли – остался он, главный Максим, взявший это имя в честь первого и подаривший его второму, главный максималист русской литературы. И через два года, тоже весной, по возвращении в Москву с крымской дачи (в Тессели, близ Мисхора, где когда-то едва не умер от воспаления легких Лев Толстой), он заболел тяжелым гриппом – есть версия, согласно которой он простудился на могиле сына, посещая ее сразу по возвращении в Москву, перед отъездом в Горки.
Этот грипп привел к воспалению легких, а легкие у Горького к 1936 году были в таком состоянии, что профессор Плетнев находил жизнеспособными лишь десять-пятнадцать процентов всей легочной ткани. Удивительно было, как Горький сохранял способность ездить, работать, встречаться с бесчисленными посетителями, жечь свои любимые костры в Горках и Тессели (он был пироманом, обожал смотреть на огонь), отвечать на сотни писем, читать и править тысячи рукописей – он был тяжело болен все последние годы, и говорить о его отравлении мог только человек, об этом не знавший или не желавший знать. Понятно, зачем понадобилась эта версия Сталину: он должен был инсценировать раскрытие государственного переворота, который якобы готовил Ягода. Но зачем эта версия – правда, с другим главным фигурантом – публицистам постсоветской эпохи, понять решительно невозможно. На Сталине достаточно реальных грехов.
Ознакомительная версия.