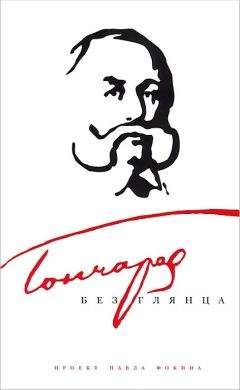Иван Александрович Гончаров. Из письма И. И. Льховскому. Мариенбад, 5(17) июля 1857 года:
А я вот все в Мариенбаде: сначала я решил, что не проживу здесь и трех дней, собрался уже ехать — и остался, и проживу, вероятно, еще недели четыре, а может быть и долее… <…> Отчего эта перемена — скажу при свидании или в одном из писем, откуда-нибудь, хоть из Парижа. Теперь скажу только, что здесь действительно нельзя прожить или надо сюда ехать с семейством, да не с одним, а с двумя, тремя, даже больше. Вот, например, заселить бы весь Мариенбад приятелями: вон на горе, подле леса с одной стороны и сада с другой, — поместить Никол<ая> Апол<лоновича> и Евг<ению> П<етровну>, пониже Старика с Старушкой, там Юниньку поближе к магазину, да всех… и тогда еще… да нет, и тогда невозможно выжить более недели в этой красивой яме, между красивыми горами, покрытыми красивым лесом. В полчаса исходишь все местечко: я обхожу его три раза в день и потом не знаю куда деться. Даже люди не такого скучного свойства, как я, и те, слышу, рассуждают вслух: Что это за скука! Мы в деревне живем, но там есть общество, какое-нибудь занятие, а здесь… Между тем не велят ни скучать, ни печалиться, ни волноваться, ни вспоминать ничего неприятного и проч. и проч. для того, чтоб воды произвели свое действие. Потом твердят, чтоб вести жизнь не сидячую, ни во время, ни после вод. Во время вод — пожалуй, а как же после-то не вести сидячей жизни — вот этого я не понимаю. Поэтому я сильно сомневаюсь, чтоб они помогли мне, однако ж каждое утро пью по три кружки, но они действуют слабо, так что доктор дал мне сегодня в помощь к водам ревеню и послезавтра будет сажать меня в мариенбадскую воду, а после в грязь. Не знаю, что будет. — Я вооружился терпением, развесил свои платья, разложил вещи и равнодушно поглядываю в окно, как будто у меня перед глазами не Богемские леса и холмы, а дровяной двор в Моховой. Луиза, моя горничная, ставит мне букеты через день, за которые в Петербурге надо дать рублей 7, а здесь они стоят 10 крейцеров, то есть немного поболее гривенника. Но вот мое горе: нет сносных сигар, вся Австрия, благодаря монополии, курит какой-то навоз. В утешение себе я купил табакерку и табаку, но тс… об этом не знает никто, даже Луиза, которая убирает мою комнату. Эта Луиза была бы недурна, но ручищи, как у мужика, и притом от работы, от беготни она так пропитана потом, что, когда мне понадобилось пришить к жилету пуговицу и она подошла близко… я минуты три терпел ужасную пытку.
Иван Александрович Гончаров. Из письма И И Льховскому. Мариенбад, 5 (17) июля 1857 года:
Узнайте, что я занят… не ошибетесь, если скажете женщиной: да, ей: нужды нет, что мне 45 лет, а сильно занят Ольгой Ильинской (только не графиней). Едва выпью свои три кружки и избегаю весь Мариенбад с 6 до 9 часов, едва мимоходом напьюсь чаю, как беру сигару — и к ней. Сижу в ее комнате, иду в парк, забираюсь в уединенные аллеи, не надышусь, не нагляжусь. У меня есть соперник: он хотя и моложе меня, но неповоротливее, и я надеюсь их скоро развести. Тогда уеду с ней во Франкфурт, потом в Швейцарию или прямо в Париж, не знаю: все будет зависеть от того, овладею я ею или нет. Если овладею, то в одно время приедем и в Петербург: Вы увидите ее и решите, стоит ли она того страстного внимания, с каким я вожусь с нею, или это так, бесцветная, бледная женщина, которая сияет лучами только для моих влюбленных глаз? Тогда, может быть, и я разочаруюсь и кину ее. Но теперь, теперь волнение мое доходит до бешенства: так и в молодости не было со мной. Я едва могу сидеть на месте, измеряю комнату большими шагами, голова кипит: я бы даже, кажется, мог сочинить что-нибудь, если б не запрещали доктора. Волнения вредны, а я волнуюсь, но это surcrot[44] волнения происходит от свойства здешних вод. Я не знал этого и тревожился: доктор растолковал мне и сказал, чтоб я успокоился, что он знает, сколько давать мне пить воды, и больше трех кружек не дает. <…> Вы покачаете головой и опять глубокомысленно засмеетесь; может быть даже пожалеете: не жалейте, я счастлив — от девяти часов до трех — чего же больше. Женщина эта — мое же создание, писанное конечно, — ну, теперь угадали, недогадливый, что я сижу за пером? А там пусть будет — что будет или advienne ce que pourra — в переводе. В три часа я беру ванну из минеральных вод для укрепления печени и расслабляемого водою желудка, потом обедаю и иду гулять — один или с другой женщиной, тоже русской, очень любезной и осторожной, что лишнего слова не скажет. По моей способности к ходьбе, мне мало Мариенбада, и я сегодня ушел в лес, зашел Бог знает куда и раскаялся, потому что вдруг ворочаться сделалось — лень, а надо было идти верст пять по жаре. — Здесь все тихо, только доктора задорно спорят, и изустно, и печатно, о том, отчего больные от мариенбадской воды испражняются зеленым веществом: одни говорят, что это желчь, другие — что натр, землянистые начала и т. д. — словом, здесь г… возбуждает идеи и даже страсти. А в самом деле зеленое.
Иван Александрович Гончаров. Из письма Ю. Д. Ефремовой. Мариенбад, 25 июля (7 августа) 1857 года:
Угадайте, что я делаю? Не угадаете: живу, живу, живу:
И для меня воскресли вновь
И божество, и вдохновенье,
И жизнь, и слезы…
Только не любовь: она не воскреснет.
Иван Александрович Гончаров. Из письма Ю. Д. Ефремовой. Мариенбад, 25 июля (7 августа) 1857 года:
Вот уж шестая неделя, несравненный друг мой Юния Дмитриевна, как я живу в Мариенбаде, и собираюсь уехать только в воскресенье дальше, куда-нибудь, мне все равно. Я вспоминаю о Вас беспрестанно, и скажу почему. Но прежде скажу о своем здоровье и о леченье. Каждое утро встаю я в половине шестого и в седьмом часу являюсь к источнику пить от 3 до 4 больших кружек воды и хожу два, а иногда 2 1/2 и даже до 3-х часов. Обедают в Мариенбаде в час, самые поздние в два, а я в четыре: не могу следовать общему правилу: кусок в горло нейдет; да притом перед обедом я беру — один день ванны из грязи, другой из минеральной воды, все от печени. Грязь так черна, как деготь, и так густа, что с некоторым усилием надо продавить в ней себе место, чтоб сесть: опускаешься точно в болото. Зато тепло, 27 градусов, и притом она немного щиплет кожу. Напротив ванны стоит зеркало: я, вылезая от туда, всякий раз посмотрю на себя и не налюбуюсь, потом займусь вытаскиванием комков, прутиков и мелких камешков, которые набьются везде, да и сидя в ванне, занимаюсь вытаскиванием из-под себя всякой дряни, то есть камней и щепочек. Рядом тут же стоит теплая ванна с водой: я перехожу в нее и опять делаюсь чист, бел и прекрасен, как Вы меня знаете. <…> Обедаю я четыре блюда: пять ложек супу, баранью или телячью крошечную немецкую котлетку и полцыпленка, и самого тощего, как будто и он пил мариенбадскую воду. Вина я здесь не видал и ни разу не вспомнил о нем, о водке никто в Мариенбаде не слыхивал, фрукты и салат строжайше запрещены, как и всякая сырая зелень. Но кофе и чай позволены, кому что нравится. В 10 часов весь Мариенбад уже спит, и — подивитесь — я тоже, да ведь как: на днях была жесточайшая гроза, перебудившая всех, а я не слыхал. По-видимому, все бы это должно было помочь, и помогает, я это чувствую. Припадков желудочных нет, желтых пятен на лице тоже, живешь на чистом воздухе: у меня перед окнами парк и горы, с лесами — все, что Вы видите здесь на виньетке[45], воздух — лучше даже Безбородкинской дачи, — и при всем том леченье мое едва ли удастся. Угадайте, отчего? Оттого, что ежедневно по возвращении с утренней прогулки, то есть с 10 часов до трех, я не встаю со стула, сижу и пишу… почти до обморока. Встаю из-за работы бледный, едва от усталости шевелю рукой… следовательно, что лечу утром, то разрушаю опять днем, зато вечером бегаю и исправляю утренний грех. А вспоминаю Вас часто, потому что — помните — как Вы на весь мир трещали, что я поеду, напишу роман, ворочусь здоровый, веселый — etc. etc. Как мне было досадно тогда на Вас! какими пустяками казалось Ваше пророчество. Здоров, напишу роман: какая бестолковая! — думал я, — разве это возможно, разве не прошло это все, и здоровье, и романы! И что же: Вы чуть не правы! <…> Так слушайте же: я приехал сюда 21 июня нашего стиля, а сегодня 29 июля, у меня закончена 1-я часть Обломова, написана вся 2-я часть и довольно много третьей, так что лес уже редеет и я вижу вдали… конец. Странно покажется, что в месяц мог быть написан почти весь роман: не только странно, даже невозможно, но надо вспомнить, что он созрел у меня в голове в течение многих лет и что мне оставалось почти только записать его; во-вторых, он еще не весь, в-3-х, он требует значительной выработки, в-4-х, наконец, может быть, я написал кучу вздору, который только годится бросить в огонь. Авось, Бог даст, годится на что-нибудь и другое, погожу бросать. Я бы охотно остался месяц еще здесь, потому что дальше, знаю, мне не удастся уже заняться писаньем; но не остаюсь потому, что недописанное нетрудно будет, несмотря на занятия, докончить и в Петербурге. Главное, что требовало спокойствия, уединения и некоторого раздражения, именно главная задача романа, его душа — женщина, — уже написана, поэма любви Обломова кончена: удачно ли, нет ли — не мое дело решать, пусть решают Тургенев, Дудышкин, Боткин, Друж<инин>, Анненк<ов> и публика, а я сделал, что мог. Но зато теперь уже кончено, больше никогда ничего не стану писать, не смейте предсказывать: типун сядет на язык. Я и то измучился. А хотелось бы сказать еще одно заветное, последнее сказанье… Но не могу, кончено. Если теперь и написал что-нибудь, так это, должно быть, мариенбадская вода помогла. Это что-нибудь составляет сорок пять моих писаных листов, а Вы знаете, что значит мой писаный лист. Надо считать 45 листов, написанных здесь, да первой части сколько! Будет ли три части, или конец я сокращу — еще не знаю сам, я занимаюсь настоящим и не спешу заглядывать в будущее, не знаю также, когда можно его печатать, где, — ничего не знаю. Посудите же, мой друг, как слепы и жалки крики и обвинения тех, которые обвиняют меня в лени, и скажите по совести, заслуживаю ли я эти упреки до такой степени, до какой меня ими осыпают? Было два года свободного времени на море, и я написал огромную книгу, выдался теперь свободный месяц, и, лишь только я дохнул свежим воздухом, я написал книгу! Нет, хотят, чтоб человек пилил дрова, носил воду, да еще романы сочинял, романы, то есть где не только нужен труд умственный, соображения, но и поэзия, участие фантазии!