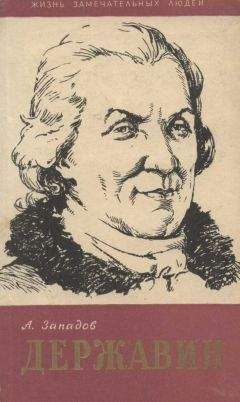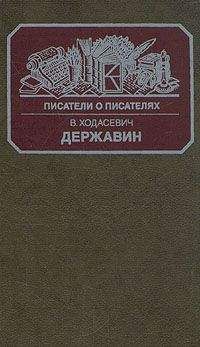В последние месяцы жизни Державина в доме его часто бывал Сергей Тимофеевич Аксаков, ставший позднее известным писателем, а тогда, в 1816 году, пользовавшийся репутацией отличного чтеца. Державин слышал об искусстве Аксакова и нетерпеливо желал с ним познакомиться.
Войдя в кабинет, как рассказывает Аксаков, он увидел поэта сидящим на диване перед столом с бумагами. В руках у него были аспидная доска и грифель, привязанный к доске ниткой. Увидев гостя, Державин с живостью встал к нему навстречу. Аксакову бросилось в глаза, что Державин был довольно высокого роста, сухощавого сложения. Голову его покрывал колпак, из-под которого небрежно выбивались остатки седых волос. Зеленый шелковый шлафрок был подпоясан шнурком с большими кистями. Портрет Державина работы Тончи, висевший в зале, через которую прошел Аксаков, походил на оригинал, как две капли воды.
— Добро пожаловать, я вас давно жду, — сказал Державин, — наслышался, что вы мастерски декламируете. Ведь мы с вами с одной стороны: вы оренбуржец и казанец, и я тоже; вы учились в казанской гимназии сначала и потом перешли в университет, и я тоже учился в казанской гимназии, а об университете тогда никто и не помышлял. Да мы с вами и соседи по оренбургским деревням; я обо всем расспросил братца вашего.
Нетерпеливо желая послушать гостя, Державин тем не менее выдерживал характер и довольно долго вел беседу о Казани и Оренбурге. Аксаков обстоятельно отвечал на его вопросы и кстати процитировал одно из стихотворений поэта.
— Вы хотите мне что-нибудь прочесть! — воскликнул Державин.
— Всею душою хочу, только боюсь, чтобы счастие читать Державину его стихи не захватило дыханья…
Державин взглянул на Аксакова, понял, что слова эти не пустой комплимент, схватил его за руку и ласково промолвил:
— Так успокойтесь.
Выдвинув несколько ящиков, расположенных по бокам и над спинкой дивана, Державин рылся в них, пока не вытащил две огромные рукописи, переплетенные в зеленый сафьяновый корешок.
— В одной книге мои мелочи, — сказал он, — а о другой поговорим после. Вы что хотите мне читать? Верно, оды «Бога», «Фелицу» или «Видение Мурзы»?
— Нет, — ответил Аксаков, — их читали вам многие, особенно актер Яковлев. Я желаю прочесть вам оду «На смерть князя Мещерского» или «Водопад».
— А я хотел вам предложить прочесть мою трагедию.
— Сердечно рад, но позвольте мне начать этими двумя стихотворениями.
С первыми стихами оды «На смерть князя Мещерского» Державин превратился в слух, лицо его сделалось лучезарным, руки пришли в движение. Когда Аксаков прочел о том, что смерть
Глядит на всех — и на царей,
Кому в державу тесны миры;
Глядит на пышных богачей,
Что в злате и сребре кумиры;
Глядит на прелесть и красы,
Глядит на разум возвышенный,
Глядит на силы дерзновенны —
И точит лезвие косы,—
Державин содрогнулся.
Едва Аксаков произнес последние стихи;
Жизнь есть небес мгновенный дар;
Устрой ее себе к покою
И с чистою своей душою
Благословляй судеб удар,—
поэт уже обнимал чтеца со слезами на глазах. Потом он молча сел, посадил Аксакова и, держа его за руку, сказал тихим, растроганным голосом;
— Я услышал себя в первый раз…
И вдруг прибавил громко, с какой-то бытовой интонацией, снявшей всю торжественность минуты;
— Мастер, первый мастер! Куда Яковлеву! Вы его, батюшка, за пояс заткнете.
Слова Державина, в чем нет сомнения, верно переданные Аксаковым, очень для него характерны. И на склоне дней, очевидно в лучшие свои минуты, — Аксаков произвел на него большое впечатление — Державин не мог и не хотел выдерживать пафос и приподнятость тона. Произнеся в «высоком слоге» фразу: «Я услышал себя в первый раз», — он тут же добавил, как показалось собеседнику, «с каким-то пошлым выражением», фразу «низкого стиля»: «за пояс заткнете», — резанувшую ухо Аксакову. Но ведь так Державин писал и все свои оды, и было бы грехом на него за это обижаться!
«Водопад» Аксакову читать не пришлось: Державину ужасно хотелось послушать свои трагедии. Он послал за домашними, едва познакомил чтеца с Дарьей Алексеевной и нетерпеливо ждал начала.
Была выбрана трагедия «Ирод и Мариамна». Аксаков знал ее и не считал большим успехом поэта, но находился в таком лирическом настроении, что рад был читать Державину что угодно, хоть по-арабски, — в любых звуках желала вылиться вскипевшая душа.
Аксаков духом прочел трагедию, опасаясь, что восторженность его может охладеть и тогда все пройдет, ибо стихи ему никак не нравились. Воодушевившись встречей с Державиным, Аксаков читал с увлечением и произвел магическое действие. Поэт не мог сидеть спокойно, часто вскакивал, руки его делали беспрестанные жесты, голова, все тело пришли в движение. Восхищению Державина не было конца. Через несколько минут он схватил аспидную доску и стал писать грифелем. Рука его дрожала, он беспрестанно стирал написанное. Наконец Державин взял у Аксакова трагедию и на первом листе написал четыре строки, посвященные чтению. Книга с надписью затерялась, и, когда Аксаков рассказывал этот эпизод в своих воспоминаниях о Державине, он мог привести только одну сохранившуюся в памяти строку: «Себя услышал в первый раз…»
Зимой 1816 года Аксаков был частым и любимым гостем в доме Державиных. Он прочел поэту вслух его трагедии «Евпраксия», «Атабалибо», «Василий Темный», перевод трагедии Расина «Федра» и два тома мелких стихотворений — басен, картин, надписей, эпитафий и мадригалов. Своих ранних стихов Державин слушать не любил.
Частые чтения очень волновали Державина. нервы его расходились, и он заболел. Дарья Алексеевна, оберегая здоровье мужа, посоветовала Аксакову сказаться больным, в чем, собственно говоря, не было обмана, так как он действительно захварывал. Внезапная болезнь чтеца и слушателя не осталась незамеченной. В Петербурге заговорили о том, что приезжий из Москвы зачитал старика Державина своими сочинениями, да и сам зачитался, сошел с ума, его вывели с полицией из дома и отдали на излечение частному лекарю.
В своих воспоминаниях о поэте Аксаков запечатлел черты его облика:
«Благородный и прямой характер Державина был так открыт, так определенен, так известен, что в нем никто не ошибался: все, кто писал о нем, — писали верно. Можно себе представить, что в молодости его горячность и вспыльчивость были еще сильнее и что живость вовлекала его часто в опрометчивые речи и неосторожные поступки. Сколько я мог заметить, он не научился еще, несмотря на семидесятитрехлетнюю опытность, владеть своими чувствами и скрывать от других сердечное волнение. Нетерпеливость, как мне кажется, была главным свойством его нрава; и я думаю, что она много наделала ему неприятных хлопот в житейском быту и даже мешала вырабатывать гладкость и правильность языка в стихах».