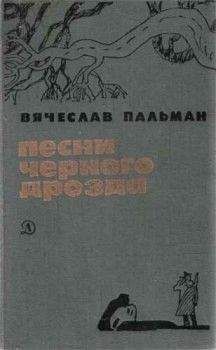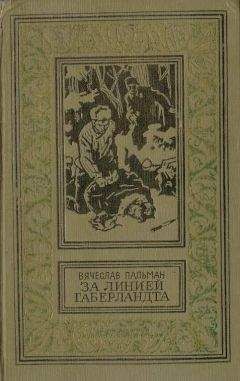— С риском. Ведь другой земли вокруг нет. Можно вал соорудить для защиты. А теплице и парникам там не место.
— Поможешь строить? — Майор переложил голову на левое плечо. Весь в ожидании.
Они потолковали минут двадцать, и начальник пожал руку заключенному Морозову. Лицо его излучало прямо-таки мальчишеский задор: ручковаться с зэками категорически запрещено, а я пожимаю! И совсем осмелев, предложил:
— Слушай, а может, перетащить тебя в мой лагерь? Все удобства обеспечу. У тебя сколько годков по приговору?
— Три. Осталось восемь месяцев.
— Кто судил?
— Никто не судил. Особое совещание.
— Когда по Особому, то эти три могут растянуться, как резина. А у меня не залежится, получишь отличную характеристику.
— Нет, останусь в совхозе. Спасибо за доброе слово. Там у меня друзья, учителя-агрономы.
— Как знаешь. Но не забывай, наведывайся.
Они расстались почти друзьями. Но была и тень: напоминание майора об опасности: приговор — резина…
Что это не оговорка, Морозов знал и по Дукчанскому лагерю, где был свой оперчек, ничтожный человечек, которому не по силам, не по уму пришлась бы любая самая простая работа. В лагере он не сидел без «дела». И Морозову рассказывали, что, по крайней мере, троих он «укатал» перед освобождением на новый срок. Словом — бояться было кого. Тем более что общее положение на Колыме менялось в худшую сторону. Вести о новых сроках приходили из лагерей-приисков. Лучше бы не приходили, не терзали сердца тех, у кого срок малый.
* * *
Весной и летом тридцать девятого года и почти до начала сорокового этапы заключенных, проходившие мимо Дальнего поля и мимо лагеря, являлись взору почти ежедневно. Кого везли и откуда везли, можно было только догадываться. Осведомленные шоферы сказывали, что все еще слышат в кузовах нерусскую разноязычную речь. Вроде страна ни с кем не воюет, а иностранцы прибывают на Колыму. Называли по догадке языки эстонский, латышский, литовский. Слышали польский. Особенно много видели заключенных в форме польских офицеров, гражданских поляков в ненашенской одежде, даже разговаривали с ними, когда приходилось останавливаться «по нужде» на голых, просматриваемых местах.
Летом повезли людей, разговаривающих на украинском, но не совсем похожем, улавливали слова: «Львов», «Ужгород», «Тернополь». Кто имел возможность читать газеты, те прокладывали мостик от этих дорожных слухов к сообщениям об освобождении Западной Украины и Прибалтики от «ненавистного буржуазнонационалистического гнета», после чего там проводили «чистки». В тылу Красной Армии обосновались специальные части, не подчиненные армейскому командованию. Ну а где «чистка», там и вычищенные, вот им, наверное, и приходилось менять мягкий климат Карпат и Прибалтики на жгуче-ксщтинентальный северо-восточный у черта на куличках.
Прииски в те годы сильно поредели, лагерный народ вымирал, но в Севвостлаге не унывали, бригады пополнялись из новых этапов третьего или четвертого потока, если считать с «набора» 1932 года. Самым страшным и многолюдным все же оставался «набор» 1936–1939 годов. От них на Колыме оставалось совсем мало, люди тех лет переполнили инвалидные лагеря под Магаданом, на 23-м километре, в Оротукане, Спорном, в малых лагпунктах по трассе, в Чай-Урье, на новых местах близко от водораздела рек Колымы и Индигирки, откуда до «полюса холода» оставалась сотня километров; Начальники приисков прямо-таки проклинали этот полюс холода, поскольку зимой приходилось «актировать» и не выпускать заключенных на работу во все дни с температурой в минус 50 градусов и ниже. Таких дней набиралось до двух десятков. Заключенные сидели в бараках, облепив раскаленные печи, а план вскрыши «торфов» горел, что называется, синим пламенем. И в пламени этом сгорали многотысячные премии и ордена, на которые так падки были дальстроевские золотооловодобытчики с погонами офицеров НКВД.
В лютые зимние месяцы начальник Севвостлагеря особенно часто отправлялся со своей командой в «экспедицию наведения порядка» — как называли его наезды на прииски. Молва опережала приезд на несколько дней, оперчеки сидели ночи напролет, и вместе с начальниками лагерей и участков составляли списки зэков, которые подлежали ликвидации. Их «труд» облегчался зловещими пометками на «делах», которые ставили еще в местах осуждения. Такие пометки. обознаналц не только общие работы, тяжелый физический труд, но и верную гибель заключенного по любой причине. Приговор — приговором, а человек должен умереть, и чем скорее, тем лучше…
Гаранину (а потом Сперанскому) эти списки преподносили сразу по приезде, он просматрйвал их, но если спешил, то просто отделял какое-то число из ста или двухсот, подчеркивал цветным карандашом первых двадцать, сорок или пятьдесят — учитывая возможность своей команды — и добавлял одно слово: «расстрелять». После чего витиевато расписывался…
Смертный час назначался обычно после ужина, когда заключенные укладывались спать. Раздавалась команда «всем — на выход!» В бараках поспешно одевались, уже знали, что последует за этим вызовом. Каждый в меру своей совести и воспитания либо молился, либо плакал, но выходил. Больных выносили — вдруг окажется в списке? Лагерь выстраивался под прожекторами у вахты, как можно плотней друг к другу. Над молчаливой человеческой грудой перед смертным часом подымался парок сдавленного дыхания. Вокруг стояли охранники с винтовками наизготовку. Офицер зычным голосом выкрикивал фамилию, названный выходил, называл свои имя и фамилию. И оказывался в окружении команды палачей. Подгоняемые жгучим морозом, они торопились. Обре; ченных строили попарно и в окружении охранников вели к воротам лагеря. И здесь звучала концовка приказа: «вышеназванных заключенных за саботаж, контрреволюционную деятельность, лагерный бандитизм и невыполнение норм выработки — расстрелять». Кто валился без сознания, кто-то истерически плакал, кто-то хрипло проклинал Сталина. Охрана торопилась, тех, кто не мог идти, бросали в короба и везли, процессия выходила за вахту, а лагерь все стоял, в бараки никого не пускали. За зоной, из морозного тумана вдруг доносился недружный залп, второй, третий, потом несколько одиночных выстрелов. Все! И тогда раздавалась команда: «В бараки!» Сотни людей разбегались по своим местам, и только там, где только что лежали смертники, нары оставались незаполненными. По крайней мере, до следующей ночи. Страшно ложиться на такие доски…
После расстрела начальник колымского СМЕРШа с чувством исполненного долга шел со своими двумя адъютантами и шофером к начальнику прииска, мог спросить — где устроили его команду, мог пожаловаться на большой мороз, узнать у приискового начальника о его здоровье — все это голосом обычным, как между друзьями. В теплой прихожей ему помогали снять белый полушубок, отряхивали с меховой шапки морось, шутили. Он входил вместе с хозяином в светлую комнату, щурился на яркий свет и с нескрываемым удовольствием оглядывал накрытый стол, где стояли бутылки и тарелки со всякой вкусной снедью.
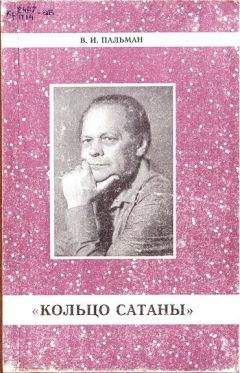

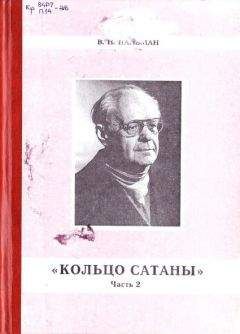
![Вячеслав Пальман - Кратер Эршота [иллюстрации Б. Коржевский]](https://cdn.my-library.info/books/24420/24420.jpg)