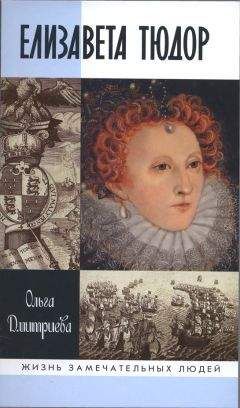Однажды, недели две, он был христианином. Они с одним товарищем по гимназии решили резать всех жидов и ставить им крест на щеках, как знак. Они связали одного товарища-еврея и финским ножом вырезали ему крест на щеке. Но не успели убить. Их поймали на этом.
Когда ему было 18 лет, я вошла раз в его комнату и увидела, что он плачет. Это было очень страшно. Потому что он никогда не плакал, а только кусал себе губы до крови. Он сказал: «Ты знаешь, я чувствую, что я глупею». С тех пор он больше ни о чем не говорил со мной и страшно замкнулся.
У меня долго сохранялись воспоминания о предшествующей жизни: я постоянно о них рассказывала в детстве, когда не хватало фантазии. Мне, конечно, никто не верил. Раз, приехав в Саратовской губ<ернии> в одно имение, я узнала и парк, и место, о котором рассказывала. Воспоминания прекратились с большою болезнью. У меня был дифтерит. Мы были одни с братом на даче. И я уже была больна. Но он запрещал мне лечиться, говоря, что «болезнь надо преодолеть». У меня был очень сильный дифтерит. Потом я ослепла на год.
В это время я увидела в первый раз того человека. Когда мне было 3 года, я отказалась от причастия. Я была очень горда. Я терпела, когда меня называли Лиля, но обижалась, когда называли Елизаветой просто. Когда священник сказал: «имя Елизавета», я подкинула рукой ложечку и сказала: «Ивановна, Дмитриева». Меня унесли.
— Мне было 13 лет, когда в мою жизнь вошел тот человек. Он был похож на Вячеслава. Его змеиная улыбка. Сперва, когда я была у Вяч<еслава>, я не знала об этом, но потом, когда он улыбнулся вдруг, угадала. У него был такой же большой лоб, длинные волосы. Только темнее Вячеслава. Бледно-голубые глаза, которые становились совсем белыми, когда он гневался. Он был насмешлив и едок. Мама очень любила его. И тогда начался кошмар моей жизни. Я ему очень многим обязана. Он много говорил со мной. Он хотел, чтобы всё во мне пробудилось сразу. Когда же этого не случалось, он говорил, что я такая же, как все. Он хотел, чтобы я была страшно образованна. Он, я потом поняла это, занимался оккультизмом, он дал мне первые основы теософии, но он не был теософом. И он был влюблен в меня, он требовал от меня любви: я в то время еще не понимала совсем ничего. Я иногда соглашалась и говорила, что буду его любить, и тогда он начинал насмехаться надо мной. Его жена знала и ревновала меня. Она делала мне ужасные сцены. Все забывали, что мне 13 лет… Да… Макс, это было… Он взял меня… Это было в день именин Лиды, рано утром… У меня настало каменное спокойствие. Я вышла через минуту, где были люди и Лида. И никто ничего не заметил, даже Лида не заметила. Это знает только она и, я думаю, мама знает… Мама любила его… И она была на его стороне… У нее, будто, было озлобление на меня, что я не полюбила его. Все были против меня, и я не знала, что делать. У меня было сознание, что у меня не было детства, и невозможность любви. Я всё старалась полюбить его и не могла. Мне казалось, что только его я могу полюбить теперь. Когда мне было 16 лет, меня полюбил Леонид (который был в Персии). И он любил Леонида (как Вячес<лав> Городецк<ого>).
На днях, после Дашиного гадания, когда она говорила о том, что в Кокт<ебель> приедут Лил<ины> родственники или близкие, которые будут иметь влияние на ее и мою судьбу, в тот же час Лиля получила письмо.
— Это не мне написано. Но прочти его. Это маме. Она почему-то написала ему, что я выхожу замуж за В<севолода> Н<иколаевича>.
Письмо это было ласково. В нем были слова: «передайте моей милой девочке, моему солнышку, мою радость за нее… Быть может успокоится ее измученная людьми и мною душа. Жаль только, что она больна».
— Лиля, а что значат эти слова: то, что невозможно было между нами…
— Ведь она любила его, Макс. И она потому так странно относилась ко мне; у нее был бессознательный упрек ко мне за то, что я не могла дать ему любви.
14 июля.
— Тоня умерла от заражения крови. У нее был мертвый ребенок. Она не знала, что умирает. Когда на теле начали появляться черные пятна, она думала, что это синяки. Она была еще жива, когда начало разлагаться лицо. Но она была уже без сознания. На лице появились раны. Губы разлагались. Все зубы почернели, и только Один вставной оставался белым. Я давала ей пить шампанское с ложки. И сама пила. Ее муж сперва — за 3 дня, когда узнал, что нет спасения, кричал, что он не хочет. Потом вдруг успокоился и повеселел. Я поняла, что он убьет себя. Потом все время, когда шла агония, он был весел и спокоен. Мама его страшно не любила. Она была несправедлива, она кричала на него. Говорила, что это он убил ее. Он так радостно кивал головой и соглашался: «да, убил». Она видела, как он написал записку и положил в карман. Я видела, по тому, как он садился, что у него револьвер в кармане. От него прятали опий. Но мы смотрели друг на друга и улыбались. Потом у нас осталась бутылка шампанского. Мы пили вдвоем в соседней комнате и смеялись. Было очень весело. Брат его, он был младше и страшно любил его, спросил: «Как вы думаете, он ничего не сделает с собой? Нужно ли воспрепятствовать?» Я сказала: не надо. И он согласился.
Тоня умерла в час ночи, а в 11 он сказал мне: «Вы видели?»
Я ничего не видела.
— «Черная тень легла на ее лицо. Она умрет ровно через 2 часа». Я посмотрела тогда на часы, чтобы знать. Потом всё в комнате начало трещать, как паркет летом. Он сказал: «Так всегда, когда покойники». Я переспросила еще, и он опять сказал: «Покойники». Потом он лежал поперек комнаты, загородив дверь. Он упал на лицо, и его волосы откинулись вперед и совсем намокли в крови. Надо было переступать через него, чтобы выйти. Потом мы остались вдвоем с тетей Машутой. Искали разных вещей, не могли найти ключей в их доме. Было очень весело. Через полчаса пришел пристав составлять протокол. Строго спросил, было ли у него разрешение на ношение оружия. Нам стало очень смешно. Он писал всё в протокол: «розовый дом и второй этаж» — и очень подозрительно смотрел на нас. Их не хотели хоронить вместе. Это было трудно устроить. Мама и теперь не может примириться с тем, что они вместе похоронены. Тоне прислали много венков. Мы с Лидой делили их поровну. Но ему кто-то прислал громадный венок из белой сирени с белыми лентами: «Отошедшему». Так и не узнали, кто.
22 июля 1909.
Это было вчера. Лиля пришла смутная и тревожная. Ее рот нервно подергивался. Хотела взять воды. Кружка была пуста. Мы сидели на кровати, и она говорила смутные слова о девочке[100]… о Петербурге… Я ушел за водой. Она выпила глоток. «Мне хочется крикнуть»…
— Нет, Лиля, нельзя! — Я увел ее в комнату. Она не отвечала на мои вопросы, у нее морщился лоб, и она делала рукою знаки, что не может говорить. «У тебя болит?» Она показывала рукою на горло. Так было долго, а, может, и очень кратко. Я принес снова воды и дал ей выпить. И тогда она вдруг будто проснулась. «Который час?»