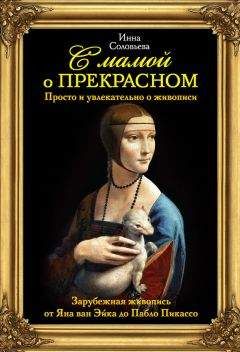Ко всем его переживаниям добавляется еще одно, самое большое: умирает Ева. Однако как это ни потрясло Пикассо, он не из тех, кто надевает траур и живет воспоминаниями о прошлом. Глубокое потрясение выражается у него в стремлении сменить дом, уехать оттуда, где все ему знакомо и неумолимо напоминает о счастье, которого уже не вернешь. И теперь, и в будущем, каждый раз когда Пикассо расстается с женщиной, которую он любил, он меняет квартиру или даже город. Каждый его переезд означает либо уход любимой женщины, либо пробуждение новой страсти в нем самом. После смерти Евы он покидает Монпарнас и поселяется в маленьком домике в Монруже. Во время этого переезда большинство «предметов», сделанных им из бумаги, олова или цинка, ломаются или исчезают бесследно. Однажды к нему в дом забрались воры, но унесли они только белье. Гертруда Стайн вспоминает, как Пикассо, еще в то время, когда он почти никому не был известен, говорил: «Как было бы хорошо, если бы пришли воры, но только настоящие профессиональные воры, а не любители, и унесли бы мои рисунки и картины». Теперь он известен, но все равно кажется разочарованным, потому что воры предпочли белье его картинам.
В этой новой атмосфере возобновляются его любовные похождения, не имеющие ни значения, ни будущего. Пикассо сделал набросок, изображающий его самого сидящим за столом, по обе его стороны расположились две собаки, а напротив сидит очень грациозная дама. Мимолетные приключения оставляют его свободным для большой страсти.
Новое событие определит направление его жизненного пути, у события этого — лицо очень молодого человека, тонкого, с лицом до такой степени узким, что оно кажется состоящим из двух соединенных вместе профилей, с живым взглядом, с большим, очень подвижным ртом, с телом эфеба, чья гибкость напоминает о кошачьей ловкости и узоре лиан. Встретив Жана Кокто, Пикассо попросил его попозировать для «Арлекина», но кубистское полотно не передало черт модели. Тем не менее для Пикассо Кокто навсегда остается воплощением его любимого персонажа. В 1955 году Кокто избрали во Французскую Академию. Когда он попросил Пикассо сделать эскиз для его шпаги академика, художник прислал ему целую серию потрясающих рисунков, на всех было изображение Арлекина в двурогом колпаке; на колпаке сидел петух с длинным хвостом, полукружием спадавшим до ног птицы, образуя эфес.
В начале 1917 года возникает мысль о довольно странном проекте. Только Жан Кокто, со своим даром убеждения, со своей способностью увлечь друзей, мог подавить сопротивление обыкновенно столь приверженного своим привычкам и распорядку Пикассо, всю жизнь остерегавшегося любой авантюры, которая была связана с деньгами. Кроме того, Кокто обладал способностью превращать нечто исключительное в очевидность. «Моя встреча с Пикассо в 1916 году изменила всю мою жизнь, — напишет он. — Я верю, что смог украсить его жизнь короной врага педантизма, которая, увы, была для него внове».
Идея этого неожиданного сотрудничества родилась давно. Кокто тогда мобилизовали ив 1915 году он приехал в Париж в отпуск. Однажды Кокто слушал, как Сати играет в четыре руки вместе с Виньесом «Фрагменты в форме груши». Между Жаном и Сати установилось нечто вроде телепатической связи и вдохновило их на мысль о создании балета, который должен был называться «Парад». Уезжая через неделю на фронт, Кокто оставил Сати целый ворох заметок и набросков, содержащих основные темы. По замыслу Кокто, балет должен был напоминать о мюзик-холле, главными его персонажами будут китаец, акробат и молоденькая американка. Идея эта очень нравится руководителям русского балета, с которыми Кокто познакомился через Дягилева. Они решают ставить балет в Риме. То обстоятельство, что Кокто предложил именно Пикассо сделать эскизы костюмов и декораций, представляется совершенно естественным, ведь оп был автором многочисленных «арлекинов», «жонглеров» и «акробатов». Но дело было в том, что Пикассо никогда не занимался театральными декорациями, совершенно не интересовался музыкой и уж совсем ничего не знал о «Русском балете», выступавшем в Париже в 1911 и 1913 годах.
При мысли о том, что придется куда-то ехать, Пикассо испытал ужас и отвращение, это было вопиющим нарушением всех его привычек, всего распорядка. «Я заставил его чуть ли не силой, — не без гордости говорит Кокто, — никто из его друзей не верил, что он поедет». Было и еще одно обстоятельство: атмосфера, царившая в те годы на Монмартре и Монпарнасе, был пронизана непримиримостью. Это был суровый период кубизма. Единственно приемлемыми источниками развлечения считалось только то, что могло уместиться на столике кафе, например, испанская гитара. А рисовать декорации, да еще для русского балета (эта молодежь не знала Стравинского), считалось чуть ли не преступлением. Поездка Пикассо в Рим был воспринята как скандальная экстравагантность, поскольку «кодекс кубистов» запрещал какие бы то ни было поездки, кроме перемещений между площадью Аббатисс и бульваром Распай в Париже.
Но — так было всегда — если Пикассо принимает решение, он больше никого не слушает. Он уже подготовил и упаковал в маленький ящичек макет «Парада» с фасадами домов, деревьями и ярмарочным балаганом. Уезжая, он прощается с Гертрудой Стайн, только что вернувшейся из Испании, Пикассо заходит к ней в обществе стройного и элегантного молодого человека, который небрежно опирается на его плечо. «Это Жан, — заявляет Пикассо, не вдаваясь в объяснения, — и мы уезжаем в Италию». Он был очень возбужден этой мыслью. «Ему необходимо было сменить обстановку», — считает Гертруда.
Они сдут вдвоем, потому что Сати отказался покинуть Аркей. Сам отъезд уже похож на праздник или на неожиданные каникулы. Пикассо смеялся как ребенок.
Балет ставил хореограф Леонид Мясин. Идея Кокто открывает совершенно новые возможности: Сергей Лифарь писал потом, что новшество это, безусловно, носило литературный характер, но оно стало началом целого хореографического стиля. Как почти во всяком значительном театральном произведении, результат был достигнут благодаря случайному сотрудничеству, импровизации и даже неудаче. В первой версии балета отсутствовали самые блестящие персонажи — «Менеджеры»; предполагалось, что громкоговоритель одной короткой фразой, положенной на музыку, должен охарактеризовать каждое действующее лицо спектакля. «Когда Пикассо показал нам свои эскизы, мы поняли, насколько интересно было бы ввести в балет, помимо традиционных, лубочных героев, еще и персонажи, лишенные человеческих черт, сверхчеловеческие, которые должны будут олицетворять ложную сценическую реальность, сводя настоящих танцоров к роли марионеток». Для Китайского фокусника Пикассо придумывает костюм, ставший впоследствии известным: красный, черный, желтый и белый, весь в закручивающихся спиралях, полосах и штрихах, которые напоминают картину восходящего солнца и дымок от ловких фокусов артиста. Акробаты — их двое вместо одного — «простодушные, очень ловкие и бедные», пришли из «розового периода» Пикассо. «Мы попытались облечь их в то меланхолическое состояние, которое свойственно цирковым представлениям в воскресные вечера». «Менеджеры» же, напротив, «дикие, невежественные, вульгарные, крикливые, вредящие всему, с чем они соприкасаются, и вызывающие ненависть, смех и недоумение толпы странностью своего вида и своих нравов». Для них Пикассо выстраивает гигантские кубические конструкции, которые становятся как бы движущейся частью декораций, их масса, кажущаяся совершенно реальной, производит желаемый эффект, превращая танцоров из плоти и крови в марионеток. Французский «менеджер», представляющий Китайского фокусника, покрыт щитами с изображением разнообразных знаков, каких-то трубок, изломанных и наложенных друг на друга плоскостей, словом, это увеличенная картина художника-кубиста, пришедшая в движение. «Менеджер» из Нью-Йорка, восхваляющий достоинства своей протеже, выходит на сцену в ковбойских сапогах, а на голове его возвышается небоскреб. Третий «менеджер» по замыслу должен был появляться верхом на лошади, но поскольку ему во время репетиций никак не удавалось сохранить равновесие — он все время соскальзывал с седла и грохался на сцену, — накануне премьеры от лошади все-таки решили отказаться. Эти люди-декорации лишь с большим трудом перемещаются по сцене, но сама их неподвижность «отнюдь не обедняет хореографию, но побуждает ее порвать со старыми традициями и искать вдохновения не в том, что движется, но в том, вокруг чего происходит движение», — говорит Жан Кокто.