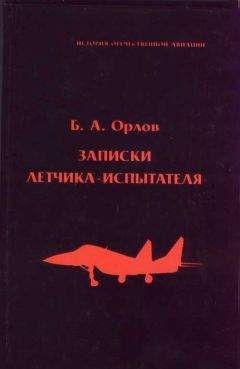Федотову не пришлось сожалеть о своем поступке: Аубакиров превосходно летал, уверенно и грамотно проводил испытания, стал Героем Советского Союза, заслуженным летчиком-испытателем СССР, и безусловно заработал право стать первым казахским космонавтом.
Постоянный внутренний самоконтроль не мешал Федотову быть очень общительным, он любил компанию, любил хорошее застолье. Но и здесь был верен себе: в самый разгар веселья, когда все размякают и начинают испытывать повышенную любовь друг к другу, Саша обычно исчезал, вроде бы опасался расслабиться…
Все более-менее значительные события в жизни каждого из нас мы праздновали вместе, но Федотову этого было мало: он считал, что отмечать памятное событие человек должен в тот же день, «чтобы именно этот день запомнился», говорил Саша, и был главным «закоперщиком» во всех этих делах. «Виновник» торжества раскошеливался, друзья добавляли, и вся компания ехала или на квартиру к хозяину, или, чтоб не баламутить хозяйку, в чей-нибудь гараж, чаще всего к тому же Федотову… Вот так раз отметили новоселье Меницкого в только что полученной, совершенно пустой квартире, расписались на обоях, все равно, мол, их менять, а утром Валерию сказал кто-то наших работников, тоже получивших жилье в этом доме, что та квартира вроде бы не Меницкого, а кого-то другого, ключи-то из в новостройках обычно подходят к половине всех замков… Ну, вскоре выяснилось, что тревога ложная…
Испытателем Федотов был выдающимся. Мало сказать, что он хорошо делал все, положенное летчику-испытателю КБ делал он все блестяще и, главное, обладал редким даром анализа и предвидения, позволяющим ему ухватывать главное звено в цепи, составленной из явлений, характеризующих поведение самолета. Что касается его профессионализма, те приведу такой пример.
Показатели устойчивости и управляемости самолета имеют точные количественные выражения, которые вычисляются на основании материалов испытаний; летчик же зачастую может определить только качественный характер тех или иных показателей. А Федотов мог, вернувшись из полета, практически точно назвать и количественные значения. Часто после его полета не нужно было торопиться расшифровывать показания самописцев все было ясно и так, с его слов, а записи только подтверждали сказанное.
В исследованиях устойчивости и управляемости самолета Федотов являлся не просто хорошим исполнителем разработанных заданий, но исключительно активно и на хорошем инженерном уровне искал вместе со специалистами наилучшие способы решения тех или иных вопросов. Гораздо меньше он занимался отработкой комплексов вооружения и навигации, что требовало долговременных «отсидок» на полигонах, но и тут природная острота ума помогала ему быстро включиться в тему и достаточно квалифицированно делать и эту работу. Если уж чего-то он и не знал, то не делал вид, что знает, и честно признавался в своей некомпетентности. А вообще-то он, по моим наблюдениям, избегал делать то, чего по каким-либо причинам не мог делать достаточно хорошо, лучше других: «вторым» быть он не любил и не умел.
Из всего сказанного следует, что работать с ним, да и общаться, было непросто; случались у нас и стычки. Говорю об этом не потому, что хочу поведать о всех сторонах наших с ним взаимоотношений, а для того, чтобы в дальнейшем показать, как он мог по-доброму относиться к товарищам, несмотря на размолвки и даже ссоры.
В 1977 г. разругались мы с Федотовым вдребезги. Он посчитал мои действия в одной сложной ситуации неправильными, даже могущими привести к происшествию, я же не без основания, т. к. находился в момент инцидента в таком положении, что мог видеть происходящее лучше его, считал, что мое решение было единственно возможным для предотвращения столкновения. Саша «завелся», повысил тон, мне это, как и большинству людей, не считающих себя виноватыми, не нравится, и дело кончилось обоюдным криком. Ни я потом не стал каяться, ни он, по своему обыкновению, не мог признать своей неправоты, и остались мы каждый при своем мнении…
Наши летчики, участники разбора, Федотова не поддержали, что тоже не добавило ему настроения, ну, а мне все это было крайне обидно и тошно. Несмотря на эту ссору и стычки, бывавшие раньше, я его безусловно уважал и ценил, может быть, в глубине души даже любил, но его несправедливость меня очень задела и идти на мировую я не хотел, считая себя правым.
Наступили нелегкие для меня дни. По-прежнему по утрам Федотов здоровался со мной, как и со всеми, за руку (у него было очень хорошее рукопожатие, крепкое, мужское, не то, что иные суют тебе вялую ладонь), и больше не смотрел в мою сторону, как будто бы меня нет в летной комнате… Надо сказать, что никаких «зажимов» по работе я от него не имел, летал по-прежнему на все задания, что соответствовали моей подготовке и опыту, но атмосфера была тягостной. Стал я подумывать о переводе в ЛИИ или на другую фирму, но жаль было расставаться с людьми, ставшими мне близкими, да и работа нравилась по-прежнему.
Так прошло почти два года. Понемногу отношения с Федотовым стали налаживаться, но до хороших им было далеко. Казалось, что теперь будем мы с ним только более-менее терпимо относящимися друг к другу сослуживцами, но случилось то, что показало мне ошибочность такого мнения.
Пишу самую тяжелую для меня часть этих записок. Не стал бы говорить об этом вообще, лишний раз бередить душу, но хочу еще раз помянуть добром Сашу Федотова, отдать должное его большому сердцу и отзывчивой к чужой беде душе.
Возвращаясь из отпуска, из Крыма, 25 августа 1980 г. я врезался в брошенный посреди дороги молоковоз.
В конце крутого подъема, на переломе, фары осветили что-то темное, лежащее поперек шоссе и блестевшее под дождем. Я стал тормозить, разглядел, что это куча веток, успел подумать, что они сейчас проскребут по днищу, и в этот момент в свете фар передо мной выросла серая стена громадной машины…
Не помогли ни профессиональная реакция летчика, ни десятилетний водительский опыт: подторможенные колеса, попав на мокрые листья акации, приспособленной водителем молоковоза вместо знака аварийной остановки, блокировались, «Волга» пошла юзом, не слушаясь ни руля, ни тормозов скользила, как по мылу.
Машина была разбита, жена сломала руку и челюсть, а девятилетний Витюша, перелетев через нас с заднего сидения, ударился обо что-то головой… 2 сентября наш сын, ласковый и добрый мальчик, начитанный и развитой не по годам (в восемь лет знал устройство реактивного двигателя), мой верный друг и первый заступник, умер в Днепропетровской больнице, так и не придя в сознание…
Первым, кому я сообщил о случившемся, был Федотов. Он сразу же прислал профессора-нейрохирурга из клиники им. Бурденко самолетом в Днепропетровск, все время был со мной на связи. Когда мы через неделю тем же самолетом прилетели домой, он сделал для нас все, что было в его силах. Он говорил мало слов утешения, но старался, как мог, помочь, быть в чем-то полезным.