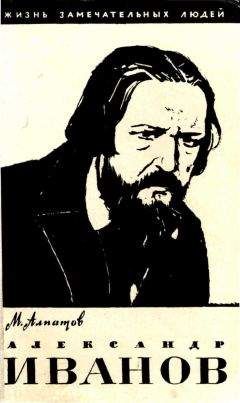Тут Герцен больше сдерживаться не мог. Он вскочил со своего места, полные слез глаза его ярко сверкали. «Хвала русскому художнику!» — воскликнул он, обнимая Иванова. Растроганный художник чувствовал себя смущенным, так как не совсем понимал волнения хозяина. Несколько раз он пытался вернуться к разговору о самом важном и дорогом для него предмете, но странным образом на язык подвертывались другие темы, и он долго и нудно выспрашивал Герцена, не знает ли он толкового путеводителя по Палестине на французском языке. Герцен хмурил лоб. напрягал память и все никак не мог вспомнить нужного названия. Уже прощаясь с хозяином, Иванов испытывал такое чувство, будто они так и не сказали друг другу самого главного и беседа их так и не прояснила его взгляда. Он не осознавал тогда, да и не мог это сделать, как всякий живой участник событий, что самым своим посещением скромного домика в Путнее он, который так хотел стать писателем, но не стал им, в сущности, вписал целую главу воспоминании в замечательную книгу о делах и днях лучших русских людей середины прошлого века — в «Былое и думы» Герцена.
«…Вы подаете не только великий пример художникам, но даете свидетельство о той непочатой, цельной натуре русской, которую мы знаем чутьем, о которой догадываемся сердцем и за которую, вопреки всему делающемуся у нас, мы так страстно любим Россию, так горячо надеемся на ее будущность!»
Так закончил свое скорбное надгробное слово о великом русском художнике Герцен, когда год спустя до нею дошла весть о его кончине.
Вновь я посетил тот уголок…
Пушкин.
Иванов вернулся в Рим, по заключению близких людей, освеженным и помолодевшим. Посещение Герцена хотя и не разрешило всех его сомнений, но укрепило его в уверенности, что Россия стоит накануне великих перемен, что художник не может оставаться их сторонним наблюдателем. Теперь, когда, казалось бы, ничто не неволило его к этому, он твердо решил принести еще одну жертву — отказаться от своей привычной спокойной римской жизни и пуститься в путь в Петербург. Он считал своим долгом отчитаться перед обществом в том, что он сделал за двадцать семь лет отсутствия.
Последние месяцы жизни в Италии Иванов, помимо хлопот, связанных с судьбой картины, прощался со своей «чисто художественной жизнью», с теми местами, где он провел большую часть своей жизни. Случилось так, что свидетелем одной из таких прощальных прогулок Иванова за город оказался молодой И. С. Тургенев, который через приятеля своего, В. П. Боткина, познакомился с художником и даже побывал у него в мастерской. Благодаря этой встрече потомство имеет литературный портрет с великого художника, сделанный пером великого писателя. Тургенев позднее опубликовал свои воспоминания под названием «Поездка в Альбано и Фраскати».
Автор «Записок охотника» находился тогда на вершине своей творческой зрелости. Только что им был закончен очаровательный рассказ «Ася», в котором образ русской девушки во всей ее прелести и неразгаданности особенно выпукло вырисовывается на фоне идиллической природы Рейна. Воображение уже рисовало ему пленительный в своей пластичности образ итальянской красавицы, который в лице Джеммы должен был войти в повесть «Вешние воды» То было время, когда Тургенев дружески обещал Л. Н. Толстому перестать быть барином. Впрочем, его замашки баловня судьбы и сибарита давали о себе знать во всем, что он делал. Они проявились и в том, как он взглянул на русского живописца, с которым его свела судьба.
Тургенев тонко подметил прозрачность того октябрьского дня, когда он в сопровождении В. П. Боткина и А. А. Иванова отправился в Альбано. Ему запомнилось, как дребезжали стекла у старой кареты, когда она после гладкой Аппиевой дороги стала подпрыгивать по камням при въезде в Альбано. От него не ускользнуло и то особенное, праздничное осеннее чувство, которое было тогда на душе у всех трех путешественников. Разговор шел об искусстве.
И Тургенева и Боткина нежило сознание того, что Рафаэль, на славу которого уже посягали всякого рода потрясатели устоев, называя его бездарным, — этот самый Рафаэль вызывал к себе такое почтительное отношение русского живописца. В сущности, до самого Рафаэля обоим литераторам было мало дела, на место него можно было бы поставить и Венеру Милосскую или что-нибудь другое, но важен был «принцип», «направление», а потому, слушая художника, они поддакивали ему и готовы были охотно признать его авторитет в этом деле. На них производило впечатление еще и то, что Гоголя, имя которого уже стало легендарным, Иванов не называл иначе, как запросто Николаем Васильевичем, и, нисколько не выставляя своей былой близости с покойным, говорил о нем так, будто он мог бы быть четвертым пассажиром в коляске. Тургенев даже почему-то решил, что Гоголь, хотя и превозносил Иванова, но его не понимал так, как вот они понимают друг друга — два русских литератора и русский художник. Тургенев и Боткин обратили внимание на то, с каким волнением Иванов вспоминал о всеобщем осуждении «Переписки». Они решили, что Иванов боялся, как бы сходная участь не постигла и его картину. Они не могли не знать, что Иванов только недавно побывал у Герцена, но о нем не произнесено было ни слова. Тургенев, видимо, считал всю эту поездку в Лондон блажью художника. Заметив нечто тревожное в словах Иванова о событиях 1848 года, он, как человек, твердо уверенный в том, что его собственные симпатии и антипатии должны разделять все «порядочные люди», решил, что и Иванов в качестве защитника Рафаэля должен был испытывать отвращение ко всякого рода потрясениям общественного порядка.
Этот дивный осенний день в римской Кампаньи и ожидание красот в Альбано и Фраскати не располагали спутников к особенно серьезным разговорам и тем более спорам. К тому же и Тургенев и Боткин не без снисходительной барской насмешливости смотрели на своего скромно, почти неряшливо одетого спутника, привыкшего совершать прогулку не в удобном экипаже, а пешком. Видимо, Тургенев даже не особенно вникал в то, что Иванов говорил о дальнейших планах своих работ и о Штраусе, — он решил, что Иванов собирался советоваться с немецким эрудитом по поводу своей картины. Тургенев и Боткин начали объяснять ему, что Штраус не может ему помочь, так как, видимо, ничего не понимает в живописи, и когда Иванов согласился со своими непрошеными советчиками и они заметили, что он испуганно вздрагивал и по-детски смеялся, слыша прямое и резкое суждение о ком-нибудь из общих знакомых, они решили, что с ними говорит настоящий простачок. Тургенев даже не без удивления признавал, что Иванов порой произносил слова, «свидетельствующие об упорной работе его ума», и этот ум он назвал замечательным. Когда в разговоре случайно затронут был больной вопрос Иванова, его опасения быть отравленным, Боткин исподтишка толкнул Тургенева коленом: оба они решили, что убеждать чудака бесполезно. «Бедный отшельник! — назидательно решил Тургенев. — Двадцатилетнее отшельничество не обошлось ему даром».