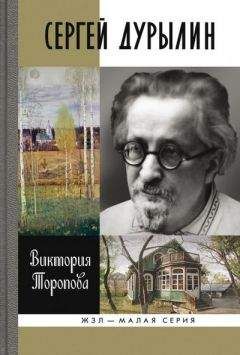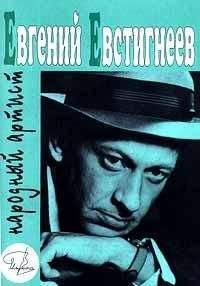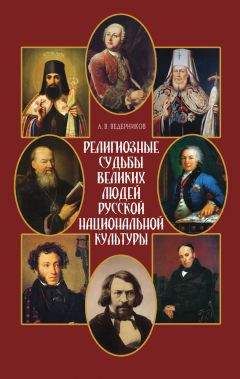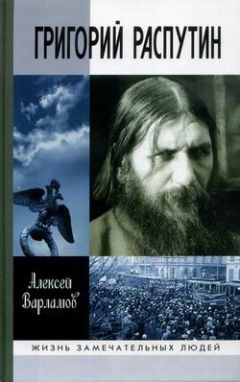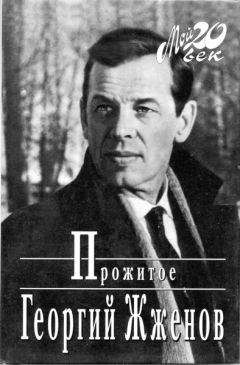Работая в 1940 году над книгой «Островский и русская действительность его времени», Дурылин возвращается мыслью к своим запискам 1924-го, в которых он сетует на необъективность драматурга, у которого купцы все — или дураки, или самодуры, или чудаки. А где же Третьяковы, Сапожниковы, Мамонтовы и другие образованные и культурные купцы, много сделавшие для своей страны? «Я знал четвёртые, пятые поколения московских купцов с наследственной давней культурой. На Афоне русское монашество возрождено в 50–60-х гг. русскими купцами. Преп. Серафим, оптинские Моисей и Антоний, афонские Иероним и Макарий — люди, с которыми беседовали и перед коими повергались ниц Гоголь, Ив. Киреевский, К. Леонтьев, — были купеческие дети. В этих подвижниках из купцов был и подлинный религиозный дух, и тонкий, мистический ум, и широкий, смелый, почти государственный, административно-практический захват и сила. Стоит вспомнить возрождение „Русика“ на Афоне, создание „Нового Афона“, обновление „Оптиной пустыни“. Стоит припомнить старообрядчество и „купца“ в нём. Стоит вспомнить „хлудовскую“ псалтырь и библиотеку, издания и картины К. Солдатенкова, домашний театр, Абрамцево, „русскую оперу“ и Архангельскую дорогу Саввы Мамонтова и множество „купеческих“ — очень старых — культурных учреждений Москвы, чтобы понять, какую действительно „глупость“ о купцах представляли и представляют доселе на сцене! <…> Помню, конечно, что без „глупости“ писали Мельников и отчасти Лесков»[444].
Когда в 1941 году фашистские войска подошли к Москве, Сергею Николаевичу предложили эвакуироваться. Он категорически отказался, а своим родным сказал: «Война будет долгая. Мы победим, но не за один месяц или год. А ехать нам некуда и незачем». Они остались в Болшеве.
Во время войны Иван Фёдорович Виноградов был в эвакуации со своим заводом в Барнауле, а Александра Алексеевна работала в Москве начальником цеха гарантийного ремонта на часовом заводе Ювелирторга, вечерами дежурила в госпитале, ухаживала за ранеными. Она была приветлива, терпелива, заботлива. Сергей Николаевич очень ценил её умное, доброе сердце. Для него и для Ирины Алексеевны Шура и Ваня были как любимые дети.
Осенью 1941 года, когда немцы стояли под Москвой, Сергей Николаевич в очередь с соседями обходил отведённый участок, наблюдал, нет ли где пожара, не сбросили ли фугасную бомбу. Однажды в 25-градусный мороз привёл 25 бойцов, замёрзших и усталых: «Накормите их всем, что есть в доме, и разместите». Так и сделали. Александра Алексеевна вязала варежки, шила маскировочные халаты, и в каждую посылочку, отправляемую бойцам на фронт, Сергей Николаевич вкладывал записочку: «Пусть эти варежки согревают не только руки, но и души ваши заботами и любовью оставшихся под Москвой жён, сестёр и матерей». Сергей Николаевич читал в воинских частях, в госпиталях лекции и организовывал концерты, привлекая к участию в них знаменитых артистов: А. А. Яблочкину, Е. Д. Турчанинову, Н. А. Обухову и др. М. Н. Лошкарёва — машинистка Дурылина, вспоминала, как в 1941–1942 годах Сергей Николаевич, закутавшись поверх одежды в тёплый халат, садился за письменный стол, а она — за машинку. Работать было трудно, руки замерзали, и их то и дело приходилось отогревать дыханием.
Одна страничка текста Дурылина ярко характеризует их жизнь в 1941 году: «Ариша выехала вчера в Москву в 11 ч. 15 мин. Долго ждала поезда. В 12 началась ужасная пальба зениток. Гул аэропланов был зловещ. Стаи птиц носились в ужасе. Дважды объявлялась тревога. В Москве прямо с поезда „загнали“ в метро. Там были до 1 ч. дня. Дальше пешком по Москве ходила по делам — „карточка“ моя, „удостоверения“ и пр. и пр. Под бомбами. Пешком, пешком. Видела разрушенный Большой театр. Трупы на Неглинной, трупы на Тверской… Ирина с Шурой, прождав 40 мин. на вокзале, сели в первый попавшийся поезд и доехали до Мытищ. От Мытищ пешком в Болшево (6 в.); дважды попадали под зенитный обстрел: укрывались в лесу, накрывая голову портфелем от осколков. Пришли в Болшево под гром зениток. И тишина в душе её, и ласка ко всем, — и забота обо всех: накормила кошек, накормила людей, успокоила меня: этому всему и всей её жизни, теперь уже ясно, есть только одно имя: героизм, любовь, не знающая страха и крепкая, как смерть. Нет, крепче смерти. 1941. Болшево. 29. X. Ревут самолёты»[445].
Из письма С. Н. Дурылина И. С. Зильберштейну: «Что значит для меня Ирина Алексеевна, Вы знаете с 1932 года — и знаете лучше всех: я не мог бы — при моих годах, сердечной болезни, неприспособленности к жизни, при моей слепоте (у меня потеряно 80 % зрения) — сделать ничего, если б не Ирина Алексеевна: Она мне поводырь (в буквальном смысле слова), и переписчик, и секретарь, и доверенное лицо, и кормитель мой, одним словом, всё»[446].
В 1942 году, как только освободили от немцев деревню Сытино, в Болшево пришло письмо с радостной вестью, что сестра Ирины Алексеевны Пелагея Алексеевна (все называли её Полина) (1900–1990) и отец — Алексей Осипович (1874–1960) живы. Но их дом немцы при отступлении сожгли вместе с другими домами деревни. Полина Алексеевна сообщила об этом кратко: «Дом сожгли, корову увели, а так всё хорошо». Александра Алексеевна съездила на пепелище и привезла родных в Болшево, хотя было нелегко пробираться по только что освобождённой территории.
Полина Алексеевна устроилась работать в госпиталь санитаркой. Скромность и безотказность сочетались в ней с глубокой мудростью и большим чувством собственного достоинства, никогда не переходящего в гордыню. Она ни в малейшей степени не навязывала себя окружающим, старалась держаться в тени. Регулярные посещения церкви, в постные дни — тюря и овсяный кисель, работы по дому, уход за курами — всё делалось тихо и незаметно. Она не вела длинных разговоров, но если говорила, то это было всегда к месту и умно. Никого не осуждая, она умела молча выразить своё неодобрение чьим-то словам или поступкам. А критерий у неё, так же как и у сестёр, всегда был один: честность, порядочность, скромность, естественность в поведении.
Невероятная история случилась 18 мая 1942 года. Гости сидели на круглой веранде, мирно пили чай — отмечали именины Ирины Алексеевны и вдруг увидели падающий на них со страшным шумом наш самолёт. Кто-то успел спрятаться под стол. Но всех спасла ёлка, росшая перед верандой. Она задержала самолёт и смягчила удар. Никто не пострадал, и самолёт остался цел, и лётчик жив. Только керосин вытек, но Алексей Осипович успел собрать его в бачки, корыта, вёдра. Лётчик узнал Сергея Николаевича: оказалось, Дурылин читал в их части лекцию. Сохранилась фотография, на которой чётко виден самолёт, уткнувшийся носом в землю перед самой верандой.