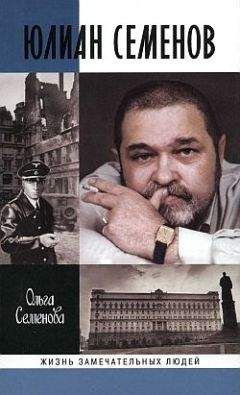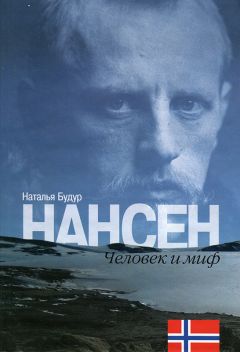Затем последовали романы «Гибель Столыпина» и «Псевдоним» — о злоключениях О. Генри. Но эти вещи папа писал в Крыму и Карловых Варах, а в горы ездил с нами исключительно для катания. Почти всегда выбирал Домбай, где останавливался в отеле у Магомета Конова и Юры Примы. Там собиралась большая разношерстная компания. Нейрохирург, академик Коновалов, кинооператор с «Мосфильма» Игорь Бек, молоденькая актриса Александра Яковлева с мужем и двумя детьми, известный в те годы в Москве Валера Барунов, поставлявший западные видеоновинки всем знаменитостям, до черноты загоревший старый физик, начавший кататься еще в 60-х, которого, несмотря на преклонный возраст, знакомые звали Санечка, и несколько коренастых бородатых мужичков, похожих на гномов, — все в дорогих спортивных костюмах, тяжелых перстнях, с холеными женами — столичные валютчики. Раз один из них — самый коренастый — не приехал. «Чалится парень?» — авторитетно спросил отец остальных. Уважительные крепыши в унисон закивали головами: «Чалится, Юлиан Семенович, — и с гордостью добавили: — Старшенький его тоже утюжить пошел у „Националя“, мы за ним приглядываем!» Папа не пользовался их профессиональными услугами — у него, несмотря на бандитские замашки ВААПа, забиравшего у писателей 99 процентов гонорара за заграничные публикации, набиралось достаточно долларов на валютном счете, — романы о Штирлице печатались с большим успехом в США, Англии, Испании и Франции; но искренне им симпатизировал, не квалифицируя их деятельность как преступную. Он справедливо считал и писал, что, намеренно запрещая дело наиболее толковым и предприимчивым, государство само толкает их в валютную спекуляцию и теневую экономику, а значит, и винить, кроме системы, некого. Зато жалел, что у нас не введена публичная смертная казнь за изнасилование или убийство ребенка. Первым узнавая от друзей — сыщиков с Петровки — об этих жутких преступлениях, обычно очень миролюбивый, жаждал крови: «Четвертовать бы пару раз на лобном месте убийцу и насильника — другим подонкам неповадно станет!»
Просыпался отец в горах затемно, еще раньше обычного, прокурив до синевы номер, правил рукописи, привезенные из Москвы, потом пил настой трав: зверобой, шиповник, грудной сбор — сам его придумал, свято верил в целебность, а после натягивал джемпер, темно-синий лыжный костюм. И мы отправлялись к подъемнику.
В феврале в горах почти всегда солнечно, небо так лазурно, что даже вода в лужах на извивающейся змеей мокрой асфальтовой дороге становится голубой.
Тают огромные сосульки, свисающие с крыш деревянных домиков, разбросанных по склону, в воздухе тянет дымком и талым снегом, а в шум ветра, гуляющего среди высоких сосен, вплетается простенькая песенка синичек. Идти трудно: ботинки, висящие на шее, тяжелы, лыжи режут плечо. Отец останавливается, прищурившись, глядит на солнце:
— Ночью шел снег. Склон сегодня замечательный, покатаемся на славу. Вперед.
— Я устала. Жарко.
— И не думай снимать джемпер, пар костей не ломит. И, кстати, способствует похудению. Я тебе уже говорил — нет ничего прекраснее преодоления самого себя. Вперед!
По канатке поднимаемся к вершинам. Кругом только переливающийся на солнце снег. На склоне красным, синим, зеленым сверкают костюмы лыжников. Они спускаются коротенькими зигзагами, такими стремительными, что снег за их спинами взмывает маленькими буранчиками. Надо съезжать и мне. Я — новичок, на горном жаргоне «чайник».
— Валяй, Кузьма, бесстрашно. Не размахивай палками и не отклячивай попу.
Спускаюсь из рук вон плохо, трусливо приседая и подолгу выбирая место для поворота. Дождавшись, пока я остановлюсь, отец отталкивается палками и не спеша съезжает сам. Без пижонства аса, без судорожности новичка, по-боксерски собравшись, достойно. К полудню, когда солнце начинает нещадно жечь, и глаза, если не надел темные очки, слезятся и горят, будто засыпанные песком, мы возвращаемся в отель. Вечером отца заваливают приглашениями. Иногда удается отвертеться, чаще — соглашается, «неудобно обидеть людей, приготовили стол». Гудит он до полуночи, накачиваясь любимой смирновкой, произнося потрясающие, каждый раз новые тосты, отплясывая с поклонницами в баре. Добравшись до номера, обваливается в постель. Стаскиваю с отца, спящего, ботинки, прикрываю дверь его комнаты (иначе не заснуть, храпит он по-богатырски). Полнолуние. В холодном лунном свете заснеженные горы таинственно, нереально красивы. Поблескивают голубым ледники. Звезды близки и ярки — завтра будет солнечно, а значит, мы снова пойдем на самый верх…
Как я уже говорила, папа отличался редкой искренностью, но любил разыгрывать.
Вспоминает академик Евгений Примаков.
Вот одна из последних наших встреч. Конец восьмидесятых, я отдыхал в «Мицави», это в Боржоми. Приехал секретарь райкома и говорит: «У нас в Бакуриани остановился Юлиан Семенов. Страшно вас просит приехать на завтрак». Приехал. Юлиан был окружен грузинскими парнями, которые смотрели ему в рот. Они могли им восхищаться — в нем было столько обаяния, и это могут признавать или не признавать, но читали-то его больше, чем других… И вдруг Юлика понесло, он опять начал играть. Я тогда никакого отношения к КГБ не имел, а он говорит:
— Вы знаете, кто за этим столом сидит?
— Я — полковник КГБ, а Евгений Максимович — генерал!
После этого секретарь райкома решил, что я не открываю мою настоящую профессию, и стал относиться ко мне с огромным почтением и чуть-чуть бояться меня.
Когда идешь в крутой вираж
И впереди чернее пропасть,
Не вздумай впасть в дурацкий раж.
Опорная нога — не лопасть.
Когда вошел в крутой вираж
И лыжи мчат тебя без спроса
И по бокам каменьев осыпь,
Грешно поддаться и упасть.
Прибегни к мужеству спины,
К продолью мышц, к чему угодно.
Запомни: спуски не длинны,
Они для тренажа удобны…
Иди в вираж, иди смелей,
Ищи момент врезанья в кручу,
Судьба еще готовит бучу
Тем, кто Весы и Водолей.
И наконец опор ноги,
Буранный снег под правой лыжей
И солнца отблеск сине-рыжий,
Но самому себе не лги.
Не лги. Иди в другой вираж,
Спускайся вниз, чтобы подняться,
Не смеешь просто опускаться,
Обязан сам с собой сражаться,
Чтоб жизнью стал один кураж,
Когда смешенье света с тенью,
Несет тебя, как к возрожденью,
А в снежной пелене — мираж.