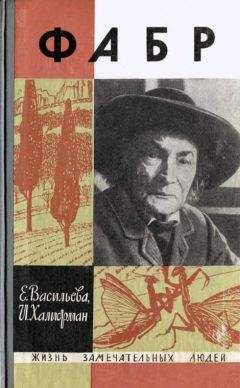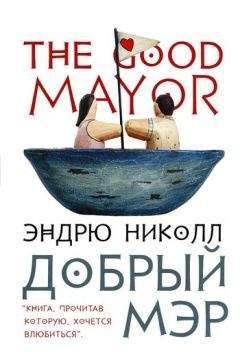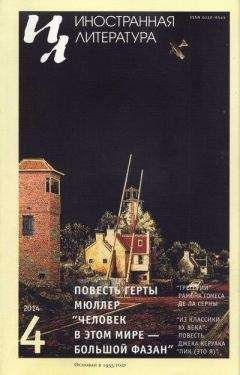Вместе с тем в увлечении провансальским, которое широко распространилось в середине XIX века, жила запоздалая, но по той же причине обостренная реакция на преследования в эпоху Конвента вообще всех местных языков — патуа. А их в свое время объявили крамолой — пережитком феодального рабства, и одновременно зародышем федерализма. Однако имеется достаточно свидетельств — на них, к слову, обратил внимание русских читателей известный украинский общественный деятель и литератор Драгоманов, вынужденный эмигрировать на Запад, — что «провансальские и бретонские автономисты и даже чуть ли не сепаратисты едва ли не превосходили людей средней Франции ревностью в борьбе с врагом». По цензурным соображениям царского времени Драгоманов не мог прямо сказать, что говорит о борьбе с врагами республики, врагами революции.
Не удивительно, что состав учредителей братства оказался довольно пестрым: Обанель, к примеру, представлял чистого певца земных радостей, анакреониста, в Брюне же видели «красного».
Так или иначе, Мистраль многое сделал для того, чтоб проложить языку простого люда южной Франции дорогу в литературу. Тогда по всей стране из самых глубин народа поднимались одаренные мастера слова, писавшие на патуа и на французском. Слесарь Кайя, каменщики Лакруа и Понси, мясник Оливье, печатник Кассан, кузнец Гранье, возчик Лафоре, парусовщик Пелобан, башмачный гвоздарь Шовье, уже знакомый нам крестьянин Батист Бонне, Виктор Жемо — автор томика песен, за которые его судили при Второй империи, слесарь Дюран, сапожники Ложье и Луи Вестрепан из Тулузы, марсельский носильщик Луи Жестуен, горшечник Пейрот, парикмахер Жасмен, ткач Рок Гривель… Их выход на поэтическое поприще приветствовали крупнейшие писатели века.
Жорж Санд благословляла поэтов «с железными руками и громким голосом». Беранже ободрял плотника Шарля Понсе. Виктор Гюго говорил об успехах плетельщика веревок Савинье Лапуента. «Вы, люди из народа, как факелы освещаете путь». Бодлер в предисловии к книге лионского рабочего Пьера Дюпона объявил: «Топором разрублены цепи подъемного моста крепости. Дорога народной поэзии открыта!»
Фабр тоже пришел в литературу с этим пополнением. Мистраль одним из первых оценил литературный дар «великого савантас» — ученого. Открываемые автором «Сувенир», Фабр писал их на французском, новые миры и нарисованные его «волшебным пером» картины природы Прованса пленяют Мистраля.
Став лауреатом Нобелевской премии по литературе, Мистраль навестил Фабра.
— Прежде чем мы встретимся в раю фелибров, — сказал он, здороваясь, — нам следует хоть раз повидаться в вашем Гармасе.
В свою очередь, и Фабр был давним читателем Мистраля. В третьей песне «Мирейо» он нашел образное выражение своих мыслей о необходимости изучать живое прежде всего живым. Он часто повторял эти строки: «Ах, безумцы, которые, скальпелем вскрывая смерть, рассчитывают познать мудрость пчел и секреты меда…»
Фабр восхищался мистралевским трехтомником — словарем провансальского языка, его знанием истории и культуры края. Несколько раз выяснял и проверял Фабр у Мистраля подробности некоторых народных обычаев и примет, происхождение местных названий насекомых.
Фабр давно убедился, что, когда имеешь дело со старыми поверьями, приметами, обычаями, преданиями, иной раз на первый взгляд совсем нелепыми, их нельзя отбрасывать с порога: стоит копнуть глубже, и во многих обнаруживается рациональное зерно, крупицы действительного знания.
Говоря о фелибрах и Фабре, о Фабре и Мистрале, сделаем короткое отступление и скажем два слова также и о русском фелибре Николя де Семенофф, проще о Николае Николаевиче Семенове. Здесь не стоит выяснять, как сын вятского губернатора оказался деятелем возрождения провансальского языка. Ограничимся сообщением, что Семенов в России бывал наездами, а жил во Франции, печатался здесь во второразрядных парижских журналах «Монитер универсель» и «Монд иллюстре» и выпустил также серию написанных по-французски романов. Последний из них — «Наши кандидаты» — привел к дуэли между автором и принцем Палермским, узнавшим себя в одном из действующих лиц. Первый же роман Семенова удостоился уничтожающей саркастической рецензии Н. А. Добролюбова в «Свистке». Н. А. Добролюбов увидел в Семенове некую разновидность Демидова-сан-Донато, того самого, который у М. Е. Салтыкова-Щедрина именуется «князем Сампантре».
Русский меценат провансальской поэзии и друг фелибров не только прилежно и быстро сочинял романы. Пригласив известных архитекторов братьев Гриволье, он «свил гнездо фелибров в самом сердце Прованса». Построенный ими на левом берегу Роны против Авиньона дворец «Зеленый дуб» стал местом парадных встреч фелибров. Здесь члены содружества читали свои стихи, здесь решались также, как теперь говорят, организационные вопросы. Из их числа отметим один: в 1909 году Консистория фелибров присвоила Фабру звание «фелибр мажораль», а также псевдоним «лю фелибр ди Таван», то есть фелибр насекомых. Отсюда и текст надписи на мемориальной доске, что прикреплена недавно к стене хижины в Сен-Леоне: «Дом фелибра насекомых». Новый фелибр мажораль был тогда же награжден высшим знаком отличия — золотым каркассонским кузнечиком.
К сожалению, в этой книге нет места для подробного рассказа об истории «Зеленого дуба» при Семенове и после него. Сообщим лишь, что теперь здесь филиал института Прованса при Сорбонне. В институте изучают историю и обычаи края, его язык и искусства, движение фелибров и творчество Мистраля, а также роль в культурной жизни Прованса того кружка, что был известен под названием Сериньянской академии, «салона Жана-Анри Фабра».
Название было, разумеется, шуткой, улыбкой, но чтоб яснее стал вложенный в него полемический подтекст, напомним, что настоящая академия, хотя и отметила несколькими научными премиями изыскания Фабра, фактически не признавала его ученым, дав лишний повод заметить, что во Франции «серьезная наука, приносящая доходы, почет и славу, только та, которая с помощью дорогих приборов разрезает животное на маленькие клочочки…»
Что касается салона. Фабр был достаточно наслышан о приемах, которые регулярно устраивала в Париже принцесса Матильда. Чуть не каждый день писали столичные газеты о проходивших здесь вечерах. Многое, что на них говорилось, задевало Фабра за живое. Его оскорбляла высокомерная снисходительность, с какой в салоне отзывались о народном любимце Беранже. Как было остаться равнодушным, читая, что здесь открыто подтрунивают над «луженой глоткой» Мистраля? Здесь в свое время отвергали, осуждали, высмеивали попытки Дюрюи перестроить систему народного просвещения. Когда неожиданно для себя здесь находили в «Жизни крестьянина» произведение полное поэзии, то лишь удивлялись, как мог это написать мужик.