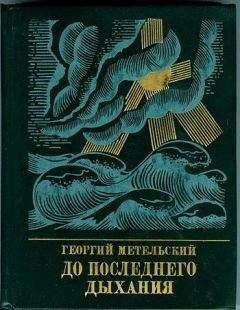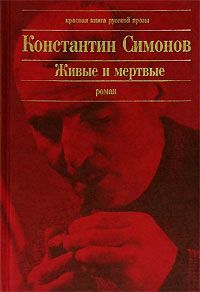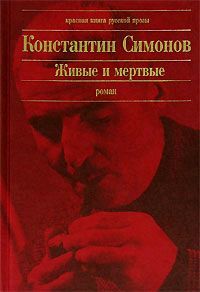День девятнадцатого сентября тоже ничем не отличался от предыдущих двух, проведенных комиссарами в арестном доме. От голода и жары подкашивались ноги, но неутомимый Авакян по-прежнему шутил, а Фиолетов, лежа на полу, поддерживал каждую шутку. Все ждали, что вот-вот придет ответ на протест, который они подали через старшего надзирателя.
— В конце концов, среди этих мерзавцев должен найтись хоть один честный человек, — сказал Азизбеков. — И этот человек нам поможет.
— Я тоже так думаю, Мешади, — откликнулся Шаумян.
— Товарищи, все будет хорошо! — Авакян не унывал. — Недавно мне цыганка нагадала жить до семидесяти двух лет…
— Так мало? — спросил Фиолетов. — Я собираюсь прожить дольше.
— Может быть, еще партию в преферанс? — предложил Амиров. — По моим наблюдениям, пулька утоляет голод почти так же, как плов или шашлык.
— Кстати, товарищи, вы знаете, как делается настоящий грузинский шашлык? — подал голос Джапаридзе. — Для этого нужен молодой барашек, беленький, как сметана…
— Алеша, прошу тебя, не надо… — отозвался из своего угла Зевин.
— Почему не надо? — вмешался в разговор Петров. — Я с удовольствием поучусь, как готовят настоящий грузинский шашлык из барашка, белого, как простокваша.
— Как сметана, Григорий Константинович, — поправил Фиолетов.
Шутками они заглушали голод и гнали от себя тревожные мысли.
Темнота наступила быстро. Луна еще не взошла, и через окно на черном небе были видны крупные южные звезды. Фиолетов поискал глазами Большую Медведицу — первое созвездие, которое он узнал в своей жизни, не нашел и огорчился. Потом мысли перекинулись на Ольгу: что с ней, скоро ли освободится? И когда, наконец, выпустят его из тюрьмы и выпустят ли? Он нарочно гнал от себя грустные мысли и старался думать о том радостном, что будет впереди, когда он вернется в Баку, чтобы выгнать оттуда белогвардейскую нечисть. А когда все там наладится, он обязательно съездит в Туголуково, посмотрит на свой домик с крылечком под навесом, зайдет в школу, а потом сходит на могилку к своему первому и единственному учителю Василию Никифоровичу.
Рядом посапывали Шаумян и Джапаридзе. Петров не спал и лежал в своей излюбленной позе — на спине, подложив под голову кисти рук. Стоял у окна Зевин.
— Какая чудесная ночь, — промолвил он мечтательно.
— В такую ночь хорошо быть на воле, — откликнулся Петров. — Скакать на добром коне по залитой лунным светом степи.
— А в такую пору в ночном плохо, что ли? — сказал Фиолетов. — Помню, в селе, еще мальчишкой, приходилось мне…
Он ее договорил. По коридору, стуча каблуками о цементный пол, прошла какая-то компания. Заскрежетал железом отодвигаемый снаружи засов, и в камеру вошли несколько человек, среди которых Фиолетов узнал Куна и начальника милиции Алания.
— Встать! — крикнул пьяным голосом Кун. Все нехотя поднялись.
У одного из вошедших Фиолетов заметил список арестованных, который еще в бакинской тюрьме составил Корганов. К двадцати пяти фамилиям чьей-то рукой была приписана еще одна — Татевоса Амирова.
— Шаумян! — выкрикнул тот, кто держал в руках список. — Джапаридзе… Фиолетов… Петров… Азизбеков… Зевин…
— Берите вещи и выходите, — сказал сутулый и тощий мужчина с бородкой клинышком.
— С вещами, Федор Андрианович? — удивился Кун, но не возразил, и все, кто был назван, стали собирать свои чемоданы и баулы.
Один из свиты Куна назвал тощего по фамилии — Фунтиков, — и Фиолетов понял, что перед ним глава Закаспийского временного правительства; о Фунтикове однажды шел разговор еще в Баку.
— Куда нас? — спросил у него Фиолетов.
— В Асхабад. Там тюрьма понадежнее.
Шаумян обнял своих сыновей.
— Будьте мужественными… и успокойте маму…
— Леля! — крикнул Фиолетов, проходя мимо женской камеры.
— Я слышу тебя, Ванечка! — откликнулась Ольга. — Куда вас?
— Говорят, что в Асхабад. Там тюрьма хорошая… Береги дочку.
— Хорошо, Ванечка… Прощай! — крикнула она с отчаянием.
Он ответил спокойно:
— До свидания, Леля.
На улице они увидели своих товарищей, которые содержались в красноводской тюрьме, и шумно поздоровались с ними. Фиолетову бросилось в глаза, что здесь собрались лишь те, кто был в списке Корганова, — двадцать пять человек и дописанный кем-то Амиров.
Путь лежал в сторону вокзала. Кун, Фунтиков, Алания громко обсуждали недавнюю попойку, конвоиры молчали. Заключенные тихонько переговаривались между собой.
На душной, плохо освещенной станции, в стороне от главных путей, стоял поезд-коротышка из паровоза и двух вагонов — классного и арестантского, с железными прутьями на окнах. Возле вагонов прохаживались конвойные в белых чалмах.
Фунтиков, Кун, Алания остановились у классного вагона, из которого вышел выхоленный, развязного вида офицер в форме капитана английских войск, и перед ним угодливо вытянулись члены Закаспийского правительства.
Кто-то из солдат бросил в тамбур несколько лопат. По знаку Куна солдаты в чалмах зашевелились и стали грубо вталкивать арестованных в вагон.
— Все-таки куда нас повезут? — спросил Фиолетов у конвоира с коротким кавалерийским ружьем за плечами.
— Тэбэ нэ все разве равно, тэбэ должно быть все равно, — пробормотал конвоир.
Поезд отошел без гудка, без звонка станционного колокола, с потушенными сигнальными огнями.
Фиолетов припал лицом к оконному стеклу и вдруг вспомнил, как двадцать с лишним лет назад он первый раз ехал на поезде. Ему все было интересно, все ново — города, реки, мосты, степь возле Баку. Сейчас из окошка виднелась не степь, а мертвая, молчаливая пустыни, сплошные освещенные луной пески до самого горизота, чахлые кусты саксаула.
В вагоне никто не спал. Те, кто бывал раньше в Асхабаде, рассказывали, что это за город и какая в нем тюрьма, другие строили разные предположения насчет встречи с членами Закаспийского правительства. Джапаридзе и Шаумян писали письма.
В шестом часу начало светать, и серо-желтые холмы сразу оживились под лучами еще огромного, красного солнца. «И пустыня тоже красива», — решил про себя Фиолетов и подумал, что в природе все прекрасно, даже безжизненная пустыня.
Прошли маленькую станцию Перевал — Фиолетов прочитал вывеску на здании вокзальчика, — и поезд пошел под уклон, все быстрее, быстрее, но вдруг резко, натужно завизжали тормоза, вагон вздрогнул, качнулся и остановился. Фиолетов глянул в окно и увидел верстовой столб с цифрой «207». «Что бы это могло значить? Может, спросить у конвоира?»
Конвоиры были легки на помине. Распахнулась дверь, и в вагон вошли несколько туркмен в чалмах, пьяный Фунтиков и английский офицер Тиг-Джонс.
— Тринадцать человек, выходи! — рявкнул он.
— С вещами? — спросил юный Мишне, работавший в Баку в Военно-революционном комитете.
Кун расхохотался на весь вагон.
— Черт с вами, берите вещи.
Мишне, Берг, Метакса, братья Богдановы, еще несколько арестованных из тех, кто помоложе, взяли своя чемоданы и, недоумевая, что все это значит, вышли из вагона.
Страшная догадка мелькнула у Фиолетова, и он почувствовал, как шевелятся волосы у него на голове. Никто из оставшихся не вымолвил ни слова, не вскрикнул, не ахнул, не заплакал. Все до звона в ушах прислушивались к тому, что делалось там, куда повели их товарищей.
Сначала была слышны пьяные голоса, тяжелые шаги, потом они удалились и наступила мертвая, страшная, гнетущая тишина. Но она длилась недолго. Через несколько минут тишину разорвали частые беспорядочные выстрелы.
Фиолетов посмотрел на белого как бумага Шаумяна, их взгляды встретились, и они молча бросились друг к другу. Потом, все так же без слов, Фиолетов обнялся с Алешей, Мешади, Яковом.
В этот момент в вагон зашли палачи.
— Остальные тринадцать душ, выходи во двор!
Тринадцать человек уже не брали с собой вещей…