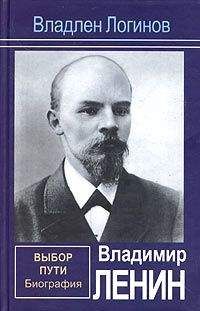Ознакомительная версия.
В программах старых революционных народников марксисты поддерживают и такие общедемократические прогрессивные меры, как «расширение крестьянского землевладения», «самоуправление», «свободный и широкий доступ знаний к народу», создание в деревне «технических и других училищ», подъем мелкого хозяйства «посредством дешевых кредитов, улучшений техники, упорядочений сбыта и т. д., и т. д., и т. д.». И «чем решительнее будут такие реформы в России», тем больше продвинут они «экономическое развитие» страны, тем «выше поднимут жизненный уровень» трудящегося, повысят уровень его потребностей, «ускорят и облегчат его самостоятельное мышление и действие»10.
Вопрос заключается лишь в том кто? как? когда? проведет указанные реформы. Либеральные народники полагают, что это может сделать существующее правительство и государство. Надо лишь, преодолев «невежество» и «грубость чувств», поставить их на стезю «современной науки, современных нравственных идей» и тем самым как раз и указать истинный «путь к человеческому счастью»11.
Самое удивительное, что и Струве оказался достаточно близок к этой позиции, ибо, выступая против «ортодоксии» и «корректируя» Маркса, он утверждал, что современное государство — «прежде всего организация порядка». А поскольку, в отличие от революций, реформы это и есть некое упорядочение, то возможность проведения их сверху вполне реальна.
«.. Дело изображается так, — замечает по поводу такого рода либеральных иллюзий Ульянов, — будто нет каких-нибудь глубоких, в самых производственных отношениях лежащих причин неосуществления подобных реформ, а есть препятствия только в грубости чувств: в слабом «свете разума» и т. п., будто Россия — tabula rasa, на которой остается только правильно начертать правильные пути». Между тем такая постановка вопроса «на самом деле означает лишь «чистоту» институтских мечтаний, которая делает народнические рассуждения столь пригодными для бесед в кабинетах»12.
И Ульянов напоминает в этой связи читателям Салтыкова-Щедрина, его «Вольный союз пенкоснимателей», которые «за отсутствием настоящего дела и в видах безобидного препровождения времени» решили, «не пропуская ни одного современного вопроса, обо всем рассуждать с таким расчетом, чтобы никогда ничего из сего не выходило»13.
Маркс, пишет Владимир Ильич, был прав, утверждая, что даже самое современное государство является органом классового господства. Это по-прежнему публичная власть, отделенная от народа и противостоящая народу. Соответственно, и бюрократия, сосредоточившая всю полноту реальной власти, выражает совершенно определенные классовые интересы. Именно в ее руках — сила. Поэтому никакие проповеди либеральными профессорами самых «современных нравственных идей» не заставят ее отказаться от своих корыстных интересов. Сделать это сможет только иная — противостоящая данному государству сила, опирающаяся на «разум того, от кого только и зависит перемена», т. е. на массу самих трудящихся. «Против класса, — заключает Ульянов, — обратиться тоже к классу… Это единственный, а потому ближайший «путь к человеческому счастью»…»14
Иронические издевки, а то и гомерический хохот сопровождали любое заявление подобного рода о «разуме» масс, как только раздавалось оно в среде либеральной публики. «Темнота» и «терпение» русского мужика были здесь не только предметом постоянных пересудов, но и основой убеждения в том, что любые перемены возможны в России лишь «сверху». Потому и рассуждали они о мужике, о его «завещанной от отцов и дедов… святой обязанности трудиться, обязанности в поте лица добывать свой хлеб», а не помышлять — на западный манер — о «праве на труд» и тем более о «праве на отдых от чрезмерной работы, которая калечит и давит его»15.
Работа «Экономическое содержание народничества» написана достаточно спокойно. Лишь временами в ней прорывается не только страсть, но, если хотите, ярость. И происходит это как раз тогда, когда Владимир Ульянов цитирует подобные «прекраснодушные» рассуждения либералов…
Он вспоминает известную «сказку» Салтыкова-Щедрина «Коняга»:
«Коняга лежит при дороге и тяжко дремлет. Мужичок только что выпряг его и пустил покормиться. Но Коняге не до корма. Полоса выбралась трудная, с камешком: в великую силу они с мужичком ее одолели…
Худое Конягино житье. Хорошо еще, что мужик попался добрый и даром его не калечит. Выедут оба с сохой в поле: «Ну, милый, упирайся!» — услышит Коняга знакомый окрик и понимает. Всем своим жалким остовом вытянется, передними ногами упирается, задними — забирает, морду к груди пригнет. «Ну, каторжный, вывози!» А за сохой сам мужичок грудью напирает, руками, словно клещами, в соху впился, ногами в комьях земли грузнет, глазами следит, как бы соха не слукавила, огреха бы не дала. Пройдут борозду из конца в конец — и оба дрожат: вот она, смерть, пришла! Обоим смерть — и Коняге, и мужику; каждый день смерть…
Нет конца полю, не уйдешь от него никуда! Исходил его Коняга с сохой вдоль и поперек, и все-таки ему конца-краю нет… Для всех природа — мать, для него одного она — бич и истязание. Всякое проявление ее жизни отражается на нем мучительством, всякое цветение — отравою. Нет для него ни благоухания, ни гармонии звуков, ни сочетания цветов; никаких ощущений он не знает, кроме ощущения боли, усталости и злосчастия».
А вокруг будто слившихся воедино Мужика и Коняги кружат Пустоплясы и восторженно умиляются этому воплощению «русской души» и российского долготерпения: вот, мол, «понял он, что уши выше лба не растут, что плетью обуха не перешибешь», а потому «труд дает ему душевное равновесие, примиряет его и со своей личной совестью, и с совестью масс, и наделяет его тою устойчивостью, которую даже века рабства не могли победить!»
Владимиру Ильичу нет надобности приводить эти фрагменты из Салтыкова-Щедрина. У всех его читателей они в памяти. Он лишь многократно напоминает о Мужике и Коняге, для того чтобы поняли они, что «долготерпение» не вечно, что никакой «устойчивости» нет, что чем гнуснее это надругательство над человеком, тем страшнее станет возмездие, ибо борьба неизбежна, «борьба уже идет, но только глухая, бессознательная, не освещенная идеей». И от того, насколько успешно будут восприняты освободительные идеи, насколько вообще удастся «просветлить разум» и «придать идейность идущей борьбе», зависит и то, какие формы примет сам процесс пробуждения личности в забитом и затравленном труженике. И будто заглядывая на десятилетия вперед, Ленин пишет: «…пробуждение человека в «Коняге» — пробуждение, которое имеет такое гигантское, всемирно-историческое значение, что для него законны все жертвы, — не может не принять буйных форм при капиталистических условиях вообще, русских в особенности»16.
Ознакомительная версия.