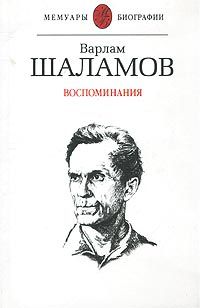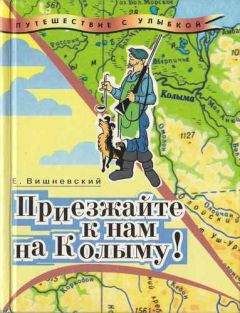На многолюдном диспуте с Авербахом и рапповцами Воронский оспорил принадлежность Горького к пролетарской литературе (Гладков, Ляшко, Бахметьев и т. п.). Воронский потрясал перстом, и наброшенная для тепла бекеша спадала с плеч. В конце концов Воронский сбросил бекешу, положил ее на кафедру и договорил речь без бекеши — и потом только одел в рукава и сел за деревянный, некрашеный стол президиума.
В 1933 году я был на чистке Воронского в Гослите. Последняя работа Александра Константиновича в Москве — старший редактор Гослита. Сам Гослит помешался тогда в Ветошном переулке.
Чистку вел Магидов, старый большевик.
И Магидов, как и Теодорович — да все, все без исключения люди, чьи фамилии были в первых рядах строителей новой жизни, — все были уничтожены Сталиным, физически уничтожены.
Воронский рассказал о своей жизни, о том, что, дескать, ошибался, работал там-то и там-то.
Вопросов никаких не задавалось, народу было немного, человек шестьдесят в зале, а то и меньше. Магидов уже приготовился продиктовать секретарю: «Считать проверенным», как вдруг из задних рядов поднялась рука, просяшая слова для вопроса.
Встал какой-то молодой парень. На лице его написано было искреннее желание постичь ситуацию, не уколоть, не намекнуть, а просто понять — для себя.
— Скажите, товарищ Воронский, вот вы были выдающимся критиком. Уже давно в советской печати не видно ваших критических статей. Вот вы написали книгу о Желябове — это хорошо. Воспоминания написали ещё лучше. Повести, наконец главу «Урагана». Все это очень хорошо доказывает большой запас творческой энергии. Но критика, критика-то ваша где?
Воронский помолчал и ответил спокойно неторопливо и холодно:
— По возвращении из липецкой ссылки я сломал свое перо журналиста.
Парень в задних рядах восторженно закивал головой, сел, пропал из глаз, и Магидов вызвал очередного на проверку.
Александр Константинович Воронский как редактор двух журналов — «Красной нови» и «Прожектора», как руководитель крупного издательства («Круг») и вождь литературной группировки «Перевал» отдавал огромное количество времени, энергии, сил нравственных и физических чтению чужих рукописей. Стихов всегда писалось много, и самотек двадцатых годов представлял такое же бурное море, как и сейчас.
Я сам был консультантом по художественной литературе при Центральной рабочей читальне им. Горького в Доме союзов в тридцать втором и тридцать третьем году. Поток рукописей, беседы с авторами и прочее. А ведь библиотека не журнал.
Александр Константинович читал день и ночь и ничего, понятно, путного не нашел, ни одного имени из самотека не поднял и не мог поднять — ибо в мешанине такой количество и качество особые. Вот эту особенность искусства и не хотели принимать догматики и теоретики, реалисты и романтики, отшельники и дельцы.
Ни одного нового имени в литературе, которое бы вышло рукоположенное Воронским.
Чтение чужих рукописей — худшая из худших работ. Неблагодарное занятие. Но теоретические убеждения заставили Воронского обращаться в новых поисках и с новым вниманием. Впрочем, это внимание стал разъедать скепсис со временем. Дочь Воронского рассказывает, как принимал иногда отец чью-нибудь объемистую рукопись.
— Как фамилия автора?
— Пупырушкин.
Александр Константинович взвесил на руке бумажную тяжесть.
— Вышлите назад. Не пойдет.
— Почему? — недоумевала дочь.
— Потому, — назидательно говорил Воронский, — что если это талантливый автор, обладающий литературным вкусом, он писал бы под псевдонимом.
Резон тут, конечно, есть.
Тогда все ждали Пушкина: вот-вот пять лет пройдет — и появится новый Пушкин, ибо капитализм — это такой строй, который «мял и душил», а теперь…
Время шло, а Пушкина все не было. Постепенно стали понимать, что искусство живет по особым законам, вне общественных коллизий и не ими определяется.
То же самое внимание обращал в своей переписке, в своей писательской деятельности и Горький. Та же была политика и те же неудачи.
Кого в литературу ввел Горький? Ни чести, ни славы горьковские восприемники не принесли.
Мы не однажды заводили разговор с Воронским о будущем. Воронский не на новые фигуры надеялся, а на то, что все талантливые писатели перейдут на сторону советскую. А не перейдут — им не дадут писать — «Кто не с нами!».
Поэтому Мандельштам и Ахматова были и для Воронского чуждым советской власти элементом.
Будущее Александр Константинович рисовал перед нами в классическом стиле всеобщего расцвета, роста всех потребностей, удовлетворения всех вкусов.
Как-то случилось на ту же тему побеседовать с Раковским[56]. Раковский вежливо выслушал мальчишеские наши мечты и улыбнулся.
«Я должен сказать, ребята, — он так и сказал «ребята», — хотя у него были студенты университета, — что картина, нарисованная вами, привлекательна. Но не забывайте, — и Раковский улыбнулся, — что это представления людей буржуазного общества. И мои и, главное, ваши, ваши, хотя вы меня и моложе на сорок лет — такие представления, идеалы буржуазного общества. Никто не знает, каким будет человек коммунистического общества. Какими будут его привычки, вкусы, желания. Может быть, он будет любить казармы.
Мы с вами вкусов его не знаем, не можем представить».
Много лет позже этого разговора попалась мне в руки автобиография Ганди. Ганди пишет о своей религии так. Человек должен интересоваться самоотречением, а не загробной жизнью, которую надо заслужить самоотречением. Если аскет на земле выполнит свой долг — то какую загробную жизнь лучше этой может он себе представить…
Как случилось, что Воронский настолько хорошо был знаком с Лениным, что даже организационное собрание первого советского литературно-художественного журнала «Красная новь» было на квартире Ленина в Кремле. На этом первом собрании присутствовали Ленин, Крупская, Горький и Воронский. Воронский делал доклад о программе нового журнала, который он должен был редактировать и где Горький руководил литературно-художественной частью.
Для этого первого номера Ленин дал свою статью о продналоге.
В каком-то мемуаре я прочел, что Ленин присмотрелся к газете «Рабочий край» — в Иванове, которой руководил Воронский, и вызвал его для новой работы. Разгадал в нем автора ещё не написанных книг по искусству.
На самом же деле Александр Константинович Воронский, профессиональный революционер, большевйк-под-польшик, член партии с 1904 года, был одним из организаторов партии. Воронский был делегатом Пражской конференции в 1912 году, партийной конференции, которую проводил Ленин в один из самых острых моментов партийной истории. Депутатов Пражской конференции было всего восемнадцать человек.