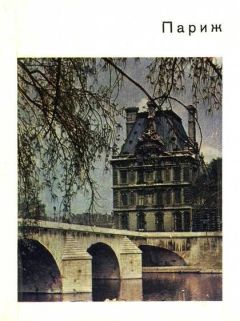то понятно, почему в своей разочарованной и ревнивой любви он написал: «У женщины будет Гоморра, а у мужчины Содом».[186] Но, по крайней мере, он помещает их далеко друг от друга, как непримиримых врагов:
Издали неприязненно глядя,
Оба пола порознь умрут.[187]
Совсем не то у Бодлера:
Я избран Лесбосом, единственный из всех,
Сподобившийся с детства черных таинств,
Чтобы воспеть секрет цветущих этих дев…
Эту «связь» между Содомом и Гоморрой в последних частях моего произведения (а не в первом, недавно вышедшем «Содоме») я доверил одному скоту, Шарлю Морелю (впрочем, именно скотам обычно достается эта роль), похоже, что сам Бодлер был «затронут» ею совершенно исключительным образом. До чего же интересно было бы знать, почему Бодлер избрал ее и как исполнил. То, что понятно у Шарля Мореля, остается глубоко таинственным у автора Цветов зла…
Как Пруст объяснял эту тайну, можно найти в Дневнике Жида:[188] он утверждал, что распознал в Бодлере закоренелого ураниста, но это объяснение в гораздо большей степени касается самого Пруста, столь особо интересовавшегося Лесбосом, нежели Бодлера. Жгучая ревность, которую вызывали у Рассказчика связи Альбертины с другими женщинами, должна быть истолкована как транспозиция ревности, испытываемой извращенным в отношении других мужчин, но, хотя он и расценивает «интрижки» с женщинами того, кого любит, как досадные эпизоды, которые внушают ему гадливость и отвращение, того же чувственного значения они не имеют.
Проявления извращения в романе
Остается поговорить о воздействии извращения на художника, и, особо, на романиста. Если оно позволяет ему лучше понять Вотрена или Шарлю, то не препятствует ли в то же время непосредственному знакомству с женщинами? Превратить Альбера в Альбертину, даже сохранив, как сам Пруст признался Жиду, лишь самые привлекательные черты, нет ли в этом риска создать ее не слишком женственной? Замечание справедливо лишь отчасти. И вот почему:
а) Пруст, как мы видели, довольно хорошо знал многих женщин. В отрочестве ему казалось, что он влюблен в некоторых девушек; его подругами были: Мари Шейкевич, Луиза де Морнан, Женевьева Строс, Анна де Ноай и десяток других, с которыми он поддерживал постоянную переписку. Ему нравилось бывать в женском обществе; женщины почитали его за чудесного и желанного друга.
б) То, что он пытается изобразить, это воздействие любви на душу Рассказчика, или, в более широком смысле, на душу того, кто любит. Стало быть, ему не так уж важно знать, кем в действительности был возлюбленный предмет, потому что самая суть любви, согласно Прусту, состоит в том, что предмет ее существует лишь в воображении любящего.
Тем не менее, транспозиция вносит некоторое неправдоподобие:
1) В пребывание Альбертины у холостяка, в заточение, с которым соглашаются ее близкие, трудно поверить, если Альбертина — девушка из добропорядочной буржуазной семьи. В то время, когда разворачивается действие эпизода, то есть, перед войной 1914 года, такое было бы просто немыслимо.
2) В своем изображении любви Пруст пренебрег тем, что является особо присущими женщине инстинктами, ее совершенно иной природой чувственности, ее потребностью в привязанности и постоянстве. Он был бы неспособен написать как «Лилию в долине», так и «Записки двух новобрачных».[189] Конечно, сама форма его книги требовала от него изображать изнутри лишь Рассказчика и никого другого (кроме Свана, который по сути — проекция Рассказчика).
Изображенная им любовь гораздо более безысходна, чем обычная, даже в произведении пессимиста. Поскольку он страдал беспокойством (я заимствую здесь его собственный диагноз), то истолковывал это беспокойство как проявление ревности. Даже в «Аду» Барбюса найдется несколько возгласов радости, которые напрочь отсутствуют в прустовском аду, что объясняется причинами, которые приводит он сам: подпольность так называемой «противоестественной» любви, ее продажность, трудность выбора, неустойчивое положение во враждебном обществе.
Стоило бы изучить, чтобы сопоставить их с «Содомом и Гоморрой», Сонеты Шекспира, «Коридона» Жида и некоторые тексты Уайльда, отображающие «дионисийские стороны уранизма», но, если картина Пруста и неполна, зато точна и помогает прояснить несведущему читателю это явление, «столь плохо понятое, столь напрасно осуждаемое». Кроме того, изучение извращенных дало Прусту, желавшему показать, что всё в любви — работа воображения, самую захватывающую иллюстрацию. Удивительно уже в гетеросексуальной любви видеть, как Красота внезапно покидает «лицо женщины, которую мы разлюбили, чтобы обосноваться на таком, что всем прочим кажется безобразным, но еще поразительнее видеть, как эта Красота, получившая все знаки почитания от вельможи, покинув прекрасную принцессу, тотчас же переселяется под фуражку омнибусного контролера».
Говорилось, что гораздо мужественнее было наделить Рассказчика нравами Шарлю и не перелицовывать Альбера в Альбертину. Пруст на это ответил, что ему ради того, чтобы быть прочитанным и понятым, приходилось брать в расчет свою публику. Как врач-окулист говорит пациенту, пришедшему к нему на консультацию: «Посмотрите сами, лучше ли вы видите в этих очках, в тех или в других», так и романист, желающий привести своего читателя к пониманию важнейшей идеи, а именно: ирреальности того, что называют реальностью, должен сначала представить ему образ этой реальности, который пациент мог бы принять за таковую. То, что разные глаза нуждаются в разных очках для корректировки образа, ничего не меняет в принципах оптики; то, что разные существа нуждаются в разных иллюзиях, чтобы испытать желание или ревность, ничего не меняет в законах любви.
Что же касается идеи, будто любовь всегда поражение и мрачная неизбежность, то Пруст обязан ею не только извращению; Рамон Фернандес показал, что во Франции той эпохи она была вообще свойственна литературе и народной песне. Среди мюзик-холльных удач того времени можно отыскать тексты, которые mutatis mutandis [190] напоминают темы «Свана», а в предшествующую эпоху Фернандес обнаруживает у Мюрже песенку Мюзетты, с каким-то удивительно светлым чувством подводящую итог всей печальной мудрости Свана:
Остывшую золу перебирая,
Минувших дней прекрасных, золотых,
Лишь в памяти своей найдем мы их —
Ключи потерянного рая…
Если заметить также, что романы Буалева, Бурже, Франса, как в свое время и драмы Расина, изображали тогда «усиление страсти из-за взаимонепонимания», то станет очевидно, что Пруст был отнюдь не одинок в своем любовном пессимизме.