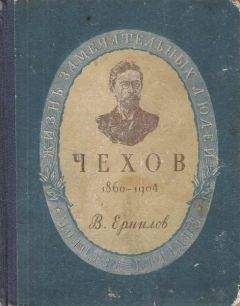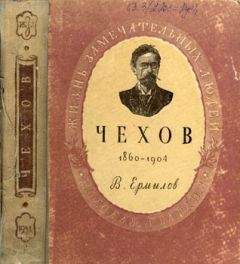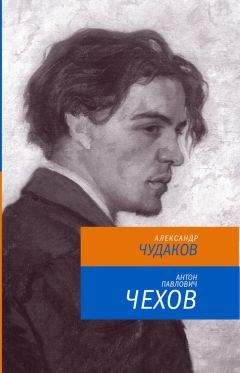Да, это не то! Не падение подстрелянной чайки, а полет прекрасной, нежной, свободной птицы высоко к солнцу! Такова поэтическая тема пьесы.
Почему Треплев, который неудачно стрелялся однажды из-за того, что от него ушла Нина, — почему он, уже приняв, как неизбежность, потерю Нины, успев пережить это, все же после встречи с Ниной в четвертом акте, снова стреляется — и на этот раз «удачно»?
Он увидел с беспощадной ясностью, как переросла его Нина! Она — уже в настоящей жизни, в настоящем искусстве, а он все еще живет в том мире незрелых красивых чувств, в каком он жил когда-то вместе с Ниной. В своем искусстве он все еще «не знает, что делать с руками, не владеет голосом». Перед самым приходом Нины в четвертом акте он как раз мучается этим.
«Я так много говорил о новых формах, а теперь чувствую, что сам мало-помалу сползаю к рутине. (Читает): «Афиша на заборе гласила… Бледное лицо, обрамленное темными волосами». Гласила, обрамленное… Это бездарно. (Зачеркивает.) …Тригорин выработал себе приемы, ему легко… а у меня и трепещущий свет, и тихое мерцание звезд, и далекие звуки рояля, замирающие в тихом ароматном воздухе… Это мучительно». Мучения Треплева ничем не отличаются от тех мучений, путь которых прошла Нина. Чайка — она улетела уже далеко, далеко от него! В последнем акте Нина предстает перед нами потрясенной, она все еще тяжело страдает, она все еще любит и будет любить Тригорина. Да и как может она не быть потрясенной, пережив то, что она пережила! Но сквозь все ее муки сияет свет победы. Этот свет и поразил Треплева. Сознание, что он еще ничего не достиг, пронизывает его с жестокой силой. Он понял теперь причину этого. «Вы нашли свою дорогу, — говорит он Нине, — вы знаете, куда идете, а я все еще ношусь в хаосе грез и образов, не зная, для чего и кому это нужно. Я не верую и не знаю, в чем мое призвание». Он ничего не может сделать со своим талантом, потому что нет у него ни цели, ни веры, ни знания жизни, ни смелости, ни сил. Так много наговорив о новаторстве, он сам впадает в рутину. Не может существовать новаторство само по себе, оно возможно только как вывод из смелого знания жизни, оно возможно только при богатстве души и ума. А чем обогатился Треплев? Нина сумела и страдание свое претворить в победу. А для него страдание так и осталось только страданием, бесплодным, иссушающим, опустошающим душу. Да, он тоже, как и герои раннего чеховского рассказа «Талант», «искренно, горячо» говорил об искусстве. Но, как и они, он оказывается лишь жертвой «того неумолимого закона, по которому из сотни начинающих и подающих надежды только двое-трое выскакивают в люди».
Думая о Треплеве и его судьбе, мы скажем: талант! как это еще мало! Думая о Нине и ее судьбе, мы воскликнем: талант! как это много!
Один из умных зрителей-современников, А. Ф. Кони, писал Чехову после первых спектаклей «Чайки», что в пьесе — «сама жизнь… почти никем непонимаемая в ее внутренней жестокой иронии».
Внутренняя жестокая ирония пьесы несомненна. Судьба Нины Заречной и судьба Константина Треплева развиваются во многом сходно. И там и здесь — муки неокрепшего таланта. И там и здесь — несчастная любовь, потеря любимого человека. У Нины это неизмеримо усилено потерей ребенка. И вот хрупкая, юная женщина выдерживает все эти испытания, а Треплев погибает под их тяжестью. Так приобретает реальный смысл его «символ», как называет это Нина: убитая им и брошенная к ногам Нины чайка. Он сам отождествляет себя с убитой чайкой. Вспомним эту сцену.
«Нина. Что это значит?
Треплев. Я имел подлость убить сегодня эту чайку. Кладу у ваших ног.
Нина. Что с вами? (Поднимает чайку и глядит на нее.)
Треплев (после паузы). Скоро таким же образом я убью самого себя».
Мы видим, какое сложное, многостороннее значение, проникающее, словно лучами, всю пьесу, имеет в ней образ чайки. По «внутренней жестокой иронии» оказывается, что погубленная, убитая чайка — это не хрупкая девушка, а молодой человек, считавший себя смелым, сильным, «новатором».
Чехов, конечно, сочувствует Треплеву, быть может, так же глубоко, как сочувствовал он своим братьям, и не только кровным братьям, а и всем братьям по искусству, всем людям таланта. Но, прошедший неизмеримо большие трудности в борьбе за торжество своей творческой воли, чем трудности, выпавшие на долю Треплева, он не мог простить слабость, как не мог простить ее ни Александру, ни Николаю, как не мог он простить слабость своим самым любимым героям. Искусство было для него святым делом утверждения правды, красоты и свободы на родной, беспредельно любимой русской земле. Талант означал для него оружие в борьбе, которое нельзя было складывать. И он поднял над всеми слабыми, потерявшими веру светлый образ чайки, с ее прекрасным свободным полетом!
Как видим, «Чайка» тесно связана со всеми раздумьями Чехова о сущности таланта, о мировоззрении, об «общей идее». Главная беда Константина Треплева заключается в том, что у него нет целей, которые могли бы вдохновить его талант. Умный доктор Дорн говорит Треплеву: «В произведении должна быть ясная, определенная мысль.
Вы должны знать, для чего пишете, иначе, если пойдете по этой живописной дороге без определенной цели, то вы заблудитесь и ваш талант погубит вас».
Талант без мировоззрения, без ясной, определенной мысли — ядовитый цветок, несущий гибель его обладателю. Как и герою «Скучной истории», Константину Треплеву «при такой бедности» оказалось достаточным толчка, для того чтобы вся жизнь представилась бессмысленной.
Эта же тема — страшная тягота для художника жизни без ясного мировоззрения — еще глубже связана в «Чайке» с образом Тригорина.
Его страдания более высокого уровня, чем страдания Треплева. Опытный мастер, Тригорин мучительно чувствует тяжесть таланта, не вдохновляемого великою целью. Он ощущает свой талант, как тяжелое чугунное ядро, к которому он привязан, подобно каторжнику.
Немало и своего, личного, автобиографического связал Антон Павлович с образом Тригорина. Это особенно чувствуется в тех трагических словах, которыми отвечает Тригорин на детские восторги Нины, на ее преклонение перед его успехом, славой.
«Каким успехом? — искренно удивляется Тригорин. — Я никогда не нравился себе. — Я не люблю себя, как писателя… Я люблю вот эту воду, деревья, небо, я чувствую природу, она возбуждает во мне страсть, непреодолимое желание писать. Но ведь я не пейзажист только, я ведь еще гражданин, я люблю родину, народ, я чувствую, что если я писатель, то я обязан говорить о народе, об его страданиях, об его будущем, говорить о науке, о правах человека и прочее и прочее, и я говорю обо всем, тороплюсь, меня со всех сторон подгоняют, сердятся, я мечусь из стороны в сторону, как лисица, затравленная псами, вижу, что жизнь и наука все уходят вперед и вперед, а я все отстаю и отстаю, как мужик, опоздавший на поезд, и, в конце концов, чувствую, что я умею писать только пейзаж, а во всем остальном я фальшив и фальшив до мозга костей».