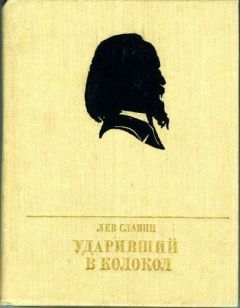Разброд в мнениях был сильный. Ярослав убедился, что Малон был прав: революция действительно застала революционеров врасплох. У них не было подготовленной программы действий. Они не могли предложить ничего, кроме смутных социально-экономических идеалов. Не было четкости и единства и в их отношении к версальскому правительству и даже к стоявшим под Парижем немецким армиям. Некоторые ждали выручки Парижа французскими войсками с севера и с юга страны. Другие возражали им, говоря, что заключен мир и войска эти, вероятно, уже разоружены.
Члены Интернационала предложили послать делегата за советом в Лондон, где находился Центральный совет Международного Товарищества Рабочих. Предложение это было принято. Делегатом тут же назначили Лаврова.
Наконец было объявлено, что сейчас выступит известный политический деятель, польский революционер, полковник Ярослав Домбровский.
Первые же слова заставили всех насторожиться. Стихли частные споры в разных концах зала. Домбровский начал с того, что рекомендовал прислушаться к лозунгу, который сейчас гремит снаружи, вокруг стен ратуши: «На Версаль!»
— Легкость вашей победы, — говорил он со страстной силой, — вводит вас в заблуждение. Нельзя дать врагу опомниться и привести свои силы в порядок. Сегодня же ночью мы должны повести батальоны Национальной гвардии на Версаль, арестовать правительство и самозваное Национальное собрание, предающее народ.
Поднялись крики, одобрительные и протестующие. Преодолевая шум, Домбровский продолжал:
— В отличие от вас, Тьер не бездействует. Сегодня наша победа будет легка. Так же, как прошлой ночью на Монмартре, так же и нынешней ночью в Версале солдаты откажутся стрелять в нас. А завтра Тьер выпросит у Бисмарка из плена сдавшуюся армию Мак-Магона, где большинство — политически невежественные крестьяне, и двинет их на безбожный революционный Париж. А немцы будут держать блокаду, потому что им выгодно, чтобы Парижская коммуна была уничтожена силами французов. Я предупреждаю вас: или сегодня, сейчас же на Версаль, или ваша революция истечет кровью в братоубийственной гражданской войне!..
Только несколько человек поддержали Домбровского. В целом же комитет склонился к вялой политике выжидания. Так и постановили: пусть решает Коммуна, которая будет выбрана через несколько дней. У нее, дескать, будут для этого все полномочия…
Домбровский покидал ратушу глубоко разочарованный.
На площади поджидали его друзья.
— По виду твоему понимаю, что тебя не послушали, — сказал Врублевский.
— Не только меня, — ответил Домбровский. — Ну, хорошо, я иностранец. Но за немедленный поход на Версаль выступали и Дюваль, и Эд, и Бержере, и Ферре. Большинство же оказалось нерешительным, либо просто не поняло серьезности обстановки. Жаль. Победа падала нам в руки.
— Революция всегда поначалу бывает добродушна, — меланхолически заметил Валентин.
— Да… — сказал с горечью Домбровский. — Опять та же медлительность, которая погубила польскую революцию, и тот же разброд…
— Но тем не менее, даже обреченные на смерть, мы будем драться, правда, Ярек? — вскричал Теофиль.
Домбровский ответил просто:
— Конечно, Тео.
На следующий день, девятнадцатого марта, к Домбровскому пришел расстроенный Дюваль.
— Не уберегли мы старика… — сказал он с сердцем.
— Бланки?! — вскричал Домбровский.
— Да. Тьер арестовал его в Ло, где он отдыхал у своих родных.
Домбровский выругался, что с ним бывало редко.
— А мы с ними благодушничаем. Даже Варлен считает, что мы можем примириться с Версалем.
— Что делать, Ярослав?
— Послать искусных агентов в Версаль, узнать, куда они спрятали Бланки, и выкрасть его. Я знаю человека, которому это можно поручить…
Говоря это, Домбровский подумал о Валентине.
В тот же день он разработал план обороны Парижа от нападения версальцев, в котором он не сомневался.
Однако покуда Домбровский продолжал вести частную жизнь литератора и скромного чертежника. Теофиля это удивляло. Он, как и все поляки, вступил в ряды Национальной гвардии, ходил в синей каскетке и высоких гетрах и получал полтора франка в день, оклад почти символический.
— Дорогой Тео, — в ответ на его удивление говорил Ярослав, — пока армия бездействует, мне в ней нечего делать. Военных действий нет. Более того, от своих друзей — Делеклюза, Флуранса да и других я знаю, что Париж ведет переговоры с Версалем. Наши идеалисты из Центрального комитета все еще надеются договориться с Тьером. Они не понимают, что он просто тянет время, чтобы накопить силы и ударить по Парижу. Вот когда гром грянет, ты меня увидишь на посту.
Впрочем, Теофиль увидел Ярослава, так сказать, «в действии» и несколько раньше. Двадцать второго марта случилось обоим Домбровским вместе с Лавровым проходить через площадь Оперы. Когда они вступили на улицу Мира, они увидели странное зрелище. Большая толпа с криками двигалась по всей ширине улицы. Это были необычные демонстранты — сверкали цилиндры и монокли, рдели в петлицах бутоньерки, развевались черные плащи, подбитые белым шелком. Они размахивали тростями и стеками и кричали:
— Долой Центральный Комитет!
— Долой убийц!
— Да здравствует Национальное собрание!
— Долой Национальную гвардию!
— Да здравствует армия!
— Да здравствует Тьер!
— Долой Интернационал!
— Долой самозванцев!
Вся эта толпа хлынула в широкое устье Вандомской площади.
— Узнаёте этих господ, Петр Лаврович? — спросил Домбровский.
— Я ведь здесь в Париже еще новичок. А вы, Ярослав, можно сказать, старожил. Вижу, что это публика из аристократических кварталов. Элита!
— Да, элита. И притом такая, которая из класса производящего превратилась в класс присваивающий.
Лавров одобрительно глянул на Домбровского:
— Ого! Вижу, дружба с бланкистами пошла вам на пользу. А кто же все-таки тут, так сказать, персонально?
— Я вижу среди них и бонапартистов, и так называемую «партию порядка», и орлеанистов. Вот этот маленький, в распахнутом пальто, — Анри де Пен. А этот высокий, с седыми подкрученными усами, — бонапартист из самых ярых — «мамелюки» их называют — сенатор Жорж де Геккерен…
Лавров вскрикнул, пораженный:
— Геккерен? Позвольте, это ж, значит, проклятый Дантес, убийца Пушкина!
Впервые Домбровский видел своего старого учителя в такой ярости.
— Верите ли, Ярослав, — сказал Лавров, глядя вслед высокой фигуре Дантеса, — у меня бы рука не дрогнула пустить в него пулю. Этакая мразь дожила до нашего времени, а убитого им гения нет с нами вот уже почти сорок лет. Конечно, совершенно естественно, что сволочь Дантес в лагере убийц. А Пушкин, я не сомневаюсь, был бы с нами.