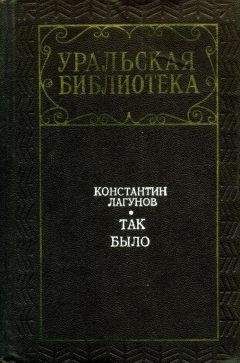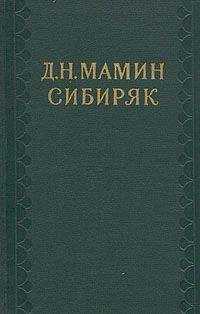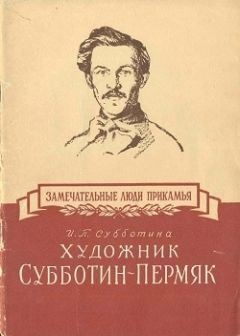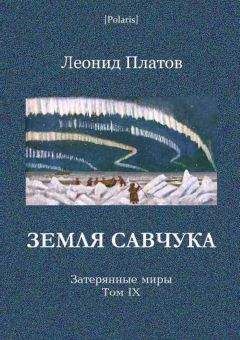— Без них не осилить?
— Куда там. И половины не скосим…
Постепенно в беседу втянулись почти все женщины. И начался неторопливый, тягучий разговор о житейских делах. Поговорили о погоде, о сенокосе, о надоях. Потом разговор перекинулся к школе. Нет тетрадей, некому преподавать математику, не в чем ходить детишкам. Федотова вынула из полевой сумки блокнот, записала карандашом: «Математик».
— Тетрадей мало. Учебников тоже. Этого не обещаю. Насчет обуви завтра подумаем с Новожиловой, посмотрим, что есть в сельпо. Можно бы пошить ребятишкам какие ни то сапожишки. Попробую раздобыть для этого брезент в МТС.
Потом поговорили о хлебе. Всходы хорошие, да поздние. Созреет ли, удастся ли убрать? Недобрым словом помянули бывшего председателя.
Ночь налилась чернотой. В темном небе замаячили звезды. А разговор на стане косарей все не стихал.
Федотову стал морить сон. Она изо всех сил боролась с ним, но безуспешно. Несколько раз клюнув носом, призналась Новожиловой:
— Сон долит — спасу нет.
— И то пора, — поддержала ее Новожилова. — Пошли, бабы, на покой. Спать-то осталось всего ничего.
Женщины разошлись по шалашам. Вполголоса переговариваясь, укладывались спать. Скоро затихли людские голоса. Только слышалось стрекотание кузнечиков да издали долетали глухие удары лошадиных ботал. Вдалеке разом вспыхнула песня.
— Вот молодежь, — с легкой завистью произнесла Полина Михайловна.
— Это Зоя с девчатами репетирует. Хотят прямо на покосе концерт устроить.
— Славная девушка.
— Славная.
Догорел и потух костер. Улеглись спать неугомонные девчата. Густая черная тишина навалилась на землю и придавила все звуки. Даже ветер не прошумит в ветвях. Люди спят. Усталые тела отдыхают в коротком страдном сне. Они неподвижны. В поздний ночной час к изголовьям спящих слетают сны. У всех они разные, каждому — свой. И все, о чем мечталось, что казалось невыполнимым и несбыточным, стало легко достижимым. И наесться можно вдоволь самого вкусного. И с любимым намиловаться, и без вести пропавшего мужа в дом впустить… Стонут, всхлипывают, воркуют и смеются бабы во сне. Как хорошо, что природа даровала человеку волшебное блаженство сна!..
На рассвете стан косарей проснулся. Застучали молоточки по наковальням, зашваркали песчаные бруски по косам, загомонили мальчишки, запели птицы, засмеялись девушки.
Прошло немного времени, и вот уже послышался глухой посвист — вжиг! — это первый косарь сделал первый взмах. Еще раз — вжиг! Руки со сна чугунные, тело неповоротливое. Тяжелая коса ходит медленно.
Отошел ведущий косарь на сажень, и вот уже вторая коса запела — вжиг, вжиг! Потом подала голос третья, и четвертая, и пятая.
Шаг за шагом стряхивало сонную усталость тело, становясь упругим и сильным. И вот уже коса пошла летать взад и вперед, будто перышко. С глухим чмоком падала на землю скошенная трава. Полтора десятка кос одновременно взлетали вверх и, сверкнув острыми жалами, ныряли в росистую траву. И росли, росли на глазах зеленые прокосы, перегороженные высокими валками.
В размеренный шум кос вдруг ворвалось пулеметное стрекотанье конной сенокосилки. Ее гул веселил, бодрил косарей. То и дело слышался задорный возглас:
— Берегись! Пятки подрежу!..
— Прибавь шагу!
6.
До завтрака Федотова косила вместе со всеми. Потом они с Новожиловой поехали в деревню.
— Нам бы уломать двух-трех поперешных, — говорила Новожилова, подъезжая к деревне, — остальные за ними пойдут.
— Давай тогда начнем с самой поперешной, — предложила Федотова.
— Давайте, — согласилась Новожилова и повернула коня к избе Долиной.
Хозяйка была дома. Хлопотала возле печи. С той голодной и страшной зимы и дом, и его хозяйка заметно переменились, будто помолодели. И хотя в избе было по-прежнему пусто, но зато все вымыто и выскоблено до блеска. На голове Агафьи черный, по-старушечьи повязанный платок. Но он не старил ее. Даже наоборот, оттенял моложавость лица. Правда, щеки глубоко запали и густые тени залегли под глазами, но все равно лицо казалось молодым. А все из-за глаз. Уж очень яркими были они, и от света их становились невидимыми преждевременные морщины и скорбные складки у рта.
Долина настороженно посмотрела на вошедших, но поздоровалась приветливо. С тех пор как Синельников с Лазаревым спасли ее от голодной беды, отношение Агафьи к уполномоченным резко изменилось.
Она пригласила гостей проходить. Вытерла тряпицей руки и встала перед ними, подперев угол русской печи.
— Садись, Агафья, — Федотова хлопнула ладонью по скамье. — В ногах правды-то маловато. Садись!
Агафья села. Уронила на колени костистые красные руки.
— Как твое житье-бытье? — поинтересовалась Полина Михайловна.
— Жить не живется и помирать не помирается, — ответила Агафья. — Четверо их. Попробуй-ка прокорми. Сейчас хоть зелень выручает.
— Коля Долин — твой сын? — Полина Михайловна улыбнулась, вспомнив вчерашнюю встречу.
— Мой.
— Боевой парнишка.
— Боевой, — обмякшим голосом согласилась Агафья. — Только вот школу бросил. День и ночь в работе, как мужик. Без него мы совсем пропали бы. А года идут. Отстает от грамоты. Что батька скажет… если с фронта вернется?
— Вернется, — заверила хозяйку Новожилова, будто ей дано было решать, кому из фронтовиков возвращаться.
— Дай-то бог. Не то пропаду я с этой оравой.
Федотова улыбнулась, глаза ее налились грустью. Положила ладонь на сухое колено хозяйки и тихо проговорила, словно вслух подумала:
— Странно все в жизни устроено. Ты вот от ребятишек плачешь. А я плачу оттого, что их у меня нет. Пока войны не было — молодыми себя считали: успеем. А теперь, как подумаю: вдруг мой Андрюша с фронта не вернется, придется одной век доживать. И так жалею, так жалею, что у меня нет ребеночка!
— Было бы желание. Ребенка поиметь — дело нехитрое… — заговорила было Агафья и осеклась, встретившись взглядом с глазами Федотовой.
— Пустое говоришь, — Полина Михайловна осуждающе покачала головой. — Ребенок — не забава, не игрушка. Это счастье. А без любви счастье не вылепишь.
— Не горюй, Полина Михайловна, — попыталась утешить ее Новожилова. — Вернется твой мужик с войны. Вы еще не одного ребенка сробите. Молодые. Вот мой муж… нет. Не вернется. Буду бобылкой вянуть. Как горох при дороге. А мне еще и тридцати нет…
Три женщины, три русские бабы сидели кружком и, не смущаясь, не таясь, говорили о самом заветном, делились друг с другом горем, облегчали душу. И всплакнули, и посмеялись. Откровенный разговор сразу сблизил, сроднил их. И в глазах Агафьи вместо настороженности появилось выражение тихой грусти и робкой надежды.