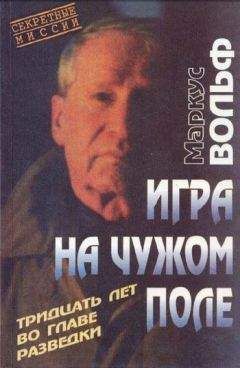Нам намекали, что эти ценности весьма значимы, но следствие так ни до чего и не докопалось. А ключи от квартиры во время болезни и после смерти Мессинга были только у домработницы. Тут нужен был живой Мессинг, чтобы соединить недостающие звенья цепочки. Но среди лубянских Шерлоков Холмсов одаренных телепатическим видением не оказалось.
Пролетевший незаметно год стер из памяти детективное наваждение, а я, оправившись от болезни, целиком погрузилась в работу с архивом. Но и о настоящем памятнике не забывала ни на день. Ведь на его могиле администрация кладбища прикрепила только дощечку, будто там покоится безымянный скиталец, а фотографию размером с ладонь прикрепил Алексей. Он же активно взялся за дело, а Валентина Иосифовна Ивановская составила пространное письмо в Министерство культуры, напоминавшее бездушным чиновникам о заслугах Мессинга перед отечеством. Мы делали акцент на его огромном материальном вкладе в фонд фронта во время войны, чтобы пронять их. Хотя несомненно, что еще больший вклад хоть и не столь осязаемый, внес он в парапсихологический сейф науки, и его наследство еще ждет своей оценки.
Мессинг имел право на большие почести даже и по признанию государства: он имел правительственную награду, а также получил звание заслуженного артиста РСФСР. Но из всех бюрократических инстанций приходил расплывчатый ответ: да, памятник Мессингу нужно поставить, но без соответствующих указаний (?!) вопрос конкретно решен быть не может.
В денежном выражении проблема заключалась в подыскании средств в сумме двух тысяч рублей, однако, не в них суть. Кто-то упорно стремился наложить вето на саму память о нем. В конце концов, мы изыскали бы средства отлить в бронзу или высечь в мраморе гипсовую модель головы Мессинга, хранящуюся у Ивановской.
Мы методично штурмовали Министерство культуры своими запросами, подключая к своим ходатайствам людей известных и заслуженных. Последнее обращение было подписано Народными артистами СССР Аркадием Райкиным, Юрием Гуляевым, Юрием Никулиным, Евгением Леоновым и известным диктором Центрального радио Юрием Левитаном...
Но воз и ныне там.
Как правило, люди высокой творческой судьбы оставляют по себе не только память сердца, но и материальные следы своего призвания: картину, ноты, книги, наконец, посаженный сад. Но какой осязаемый след оставляют после себя маги и волшебники? Какой плод остается после человека, чей творческий дар заключался в способности видеть невидимое и слышать неслышимое? Что осталось от них у нас, кроме памяти и любви?! И может ли служить утешением мысль, что и тысячи других людей, сеявших при жизни добро и свет, уходят из жизни безвестными? И сейчас, семь лет спустя после смерти Вольфа Григорьевича, душа не может примириться с такой несправедливостью! Он заслужил, чтобы о нем помнили. Приходится лишь гадать, какие силы и почему воспрепятствовали достойному увековечиванию его памяти. Возможно, что сокровенную тайну об этом он унес с собой в могилу. Такое подозрение приходит на ум, когда вспоминаю один эпизод, вернее разговор — с недомолвками и недосказанностями.
Как-то Вольф Григорьевич перечитывал письмо, ранее полученное им из Израиля. Пересказал нам его содержание — о тамошней жизни. Как раз наступил рубеж 70-х годов, и уже первые ручейки еврейского Исхода потекли из советской России.
Присутствовавшая при этом наша общая знакомая спросила, почему бы не уехать и Вольфу Григорьевичу, раз уж наступили такие времена — многие покидают неуютную родину. Вольф Григорьевич взглянул на Анну Михайловну и ответил:
— Вот она, — и показал глазами на меня, — с Сашей уедут, и Саша будет работать врачом где-то на севере Америки. Я ведь Тане это уже однажды сказал в день рождения Саши, когда ему исполнилось 10 лет. Я знаю, она не верила, и сейчас станет возражать, мол, маму не оставит, да и меня, но нас уже не будет. Она уедет в 78 году. Что же касается меня, то меня скорее уберут, чем выпустят.
Глядя в пол, тихо и размеренно произнес эту фразу Мессинг. И ни тогда, ни в другое время не комментировал эти сакраментальные слова. И они были слишком весомо произнесены, чтобы я позволила себе лезть за разгадкой ему в душу. Сам он никогда даже не заикался о возможности получить вызов, как ни разу не было и разговора о том, чтобы съездить хотя бы по туристской путевке, скажем, в Болгарию или на прежнюю родину — в Польшу, которую он помнил и любил до последних дней. И это казалось особенно странным, если учесть, что первые сорок лет жизни он провел в непрерывных заморских путешествиях. Не исключаю, что ключи от тайны держали на Лубянке.
Предсказание Мессинга сбылось. В 78 году мы с сыном покинули Родину. И слова Мессинга «где-то на севере Америки» означают теперь конкретный адрес. Мой сын успешно кончил за два года колледж в Охайо и при нем оставлен работать врачом и преподавателем.
Быть может, на западе сейчас уже находится кто-то, кому могла быть известна хоть какая-то крупица тайны Мессинга, лежащей в одной из папок с грифом «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО».
Мне же удалось вывезти на Запад только дорогие мне реликвии, связанные с именем Вольфа Мессинга. Большой художественной или материальной ценности они не представляют, но надо ли говорить о том, как они дороги мне сейчас. Иногда мне хочется открыть дверцы «хельги» в своей детройтской гостиной, достать одну из двух чашек, из которых попивали московские чаи Вольф Григорьевич с супругой, налить в нее тутошнего «липтон ти» — смешать прошлое с настоящим. Но я одергиваю себя: слишком хрупки эти фарфоровые сувениры — первого выпуска знаменитой в старой России фарфоровой фабрики Кузнецова. Уцелев во время перелета через океан, они должны дождаться лучших времен, когда имя их прежнего хозяина воскреснет из забытья. И тогда я ставлю чашку назад, так и не выпив из нее, на прежнее место за стеклом. Оттуда же глядит на меня глазами-щелками кукла «Эскимос», подаренная Мессингу на севере. А у ног куклы серебряный портсигар Мессинга, внутри которого Вольф Григорьевич написал своей рукой, а гравер по написанному выгравировал: «Дорогой друг Тайболе, я всегда с вами. В. Мессинг. Москва. 27 марта 67 г.»
Мне кажется, и до сих пор хранит он никотиновый смрад ненавистного мне «Казбека». Потому я его никогда и не открываю. Пускай этим занимается «Эскимос» по ночам, когда люди спят, а сказки оживают.
Там же, а не на обычной книжной полке, храню я и два томика дорогих ему книг: уже упоминавшиеся мной «Дневник хирурга» А.Вишневского и «Мысли и сердце» Н.Амосова. Но прежде я упомянула о них в связи с пребыванием Мессинга в госпитале, как об атрибутах грустного тогда для него быта. А сейчас я благоговейно глажу обложку каждой из них. Какое счастье, что удалось сберечь их и привезти с собой! А сколько пропало при пересылке из Москвы в США. Дарственные надписи медиков с мировым именем — лучше любых моих слов свидетельствуют о глубоком уважении и признании необычайного дара Вольфа Григорьевича Мессинга этими знаменитыми учеными и врачами, «...в знак удивления и восхищения чудом» — написал Николай Амосов. Можно ли сказать лучше!