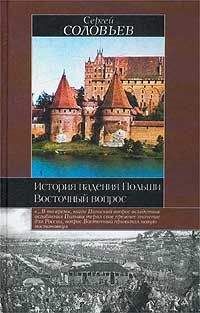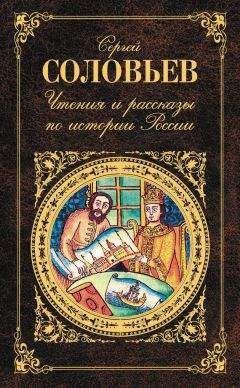соображению, изучению всех подробностей дела, чем особенно отличался немец Остерман, имевший также огромное преимущество в образовании своем, в знании языков немецкого, французского, итальянского, усвоивший себе и язык русский. И вот при каждом важном, запутанном деле барон Андрей Иванович необходим, ибо никто не сумеет так изучить дело, так изложить его, и барон Андрей Иванович незаметно идет все дальше и дальше; его пропускают, тем более что он не опасен, он один, он не добивается исключительного господства; где ему? он такой тихий, робкий, сейчас и уйдет, скроется, заболеет; он ни во что не вмешивается, а между тем он везде, без него пусто, неловко, нельзя начать никакого дела; все спрашивают: где же Андрей Иванович? Для министров иностранных это человек важный, ибо опасный: он при обсуждении дела не закричит так против Англии, как неистовый Ягужинский, не вооружится так сильно и решительно против австрийского союза, как Толстой; но он тихонько подвернет такую штучку, что испортит все дело уже решенное: и Ягужинский, и Толстой замолчат.
Был при Петре еще доверенный человек не из русских, но и не совсем чужой, не немец, как тогда называли еще всех иностранцев, Савва Владиславич Рагузинский. Савва не потерял своего значения и при Екатерине I, для которой был необходим, ибо имел способность прежде других знать все; он был другом Апраксина и Толстого: это было немудрено, потому что Апраксин и Толстой были один человек, но в то же время Савва был другом и Голицына, был другом Макарова, пользовался и расположением Меншикова. Французский посланник Кампредон отозвался о Савве, что он имеет ловкость грека без дурных качеств, свойственных этому народу. Ловкий Савва обогнал, кажется, и француза; сам Кампредон продолжает тут же: «Мало чего я не могу узнать и внушить царице чрез Савву». Дипломату XVIII века казалось только ловкостию, без примеси дурного качества, – служить иностранному двору! Савва питал особенную нежность к версальскому двору со времени путешествия своего во Францию.
В начале царствования Екатерины Савва действительно мог думать, что союз России с Францией и, разумеется, с Англией дело очень возможное. Две соперничествующие державы постоянно добивались союза новой империи, Франция и Австрия. Но если Австрия так сильно добивалась, чтобы русский престол достался великому князю Петру Алексеевичу, то понятно, в каком отношении должны были находиться к австрийскому двору люди, употребившие все старание, чтобы Петр был отстранен от престола в пользу Екатерины, и, разумеется, должны были хлопотать, чтобы это отстранение из временного сделалось вечным в пользу дочерей Петра Великого. Нерасположение к Австрии естественно сближало с Францией. Но союз с последнею встретил сильные препятствия по двум причинам: во-первых, союз с Францией был вместе союз с Англиею, что возбуждало сильное отвращение в некоторых птенцах Петра, преимущественно в Ягужинском, который видел здесь уклонение от политики великого императора, неуважение к его памяти; потом Россия не иначе принимала союз, как с условием, чтобы Франция приняла на себя все обязательства России относительно герцога Голштинского в Дании и Швеции, на что Франция никак не могла решиться. Если Ягужинский так сильно противился франко-английскому союзу, то в пользу его был Толстой, сильно недолюбливавший Австрии по делу царевича Алексея. Вельможи разделились: на стороне франко-английского союза вместе с Толстым был неразлучный с ним Апраксин, Меншиков, Остерман, и что всего удивительнее, Голицын; против него – Головкин, Долгорукий, Репнин и Ягужинский. Споры были жаркие: после одного из этих споров Ягужинский, выпивши, как говорят, лишнюю рюмку у герцога Голштинского, наговорил сильных оскорблений Меншикову и Апраксину и побежал в Петропавловский собор жаловаться перед гробом Петра Великого. Уже и прежде, тотчас по смерти Петра, чтобы поддержать согласие между приверженцами Екатерины, Бассевич, министр герцога Голштинского, помирил Меншикова с Ягужинским. Теперь новая ссора, и опять герцог Голштинский просит императрицу простить Ягужинскому с тем, чтоб он просил извинения у Меншикова и Апраксина и дал письменное обещание не напиваться, а если ему случится в другой раз, напившись, оскорбить кого-нибудь, тогда он поплатится и за прежние грехи.
Ягужинский напрасно очень горячился: франко-английский союз не мог состояться по несогласию Франции принять на себя все обязательства относительно герцога Голштинского, хотя и был уже составлен список лиц, которых французскому посланнику надобно было подкупить для приведения дела к желанному концу. Ничем кончились и хлопоты Куракина о браке цесаревны Елизаветы с одним из французских принцев. 17 мая 1725 года он уведомил императрицу, что на брак с самим королем нечего больше рассчитывать: «Понеже супружество короля французского уже заключено с принцессою Станислава (Мариею Лещинскою), и так сие сим окончилось, теперь доношу и напоминаю прежнее желание дюка де Бурбона, который требовал себе в супружество цесаревну Елизавету Петровну». Только в сентябре был послан к Куракину давно желанный портрет цесаревны, причем Макаров писал посланнику: «Зело сожалею, что умедлил оным портретом живописец, ибо писал близко году и ныне пред тою персоною государыня цесаревна гораздо стала полнее и лучше». Через год (2/13 сентября 1726) Куракин дал знать о другом женихе: «Пред четыремя годами его императорскому величеству было предложено от умершего дюка Дорлеанса о супружестве государыни цесаревны за сына его ныне владеющего дюка Дорлеанса, первого принца крови и наследника короны французской, ежели король детей иметь не будет, который (то есть герцог Орлеанский) ныне овдовел. И ежели вашего величества высокое намерение к тому супружеству государыни цесаревны Елизаветы Петровны есть, то велите меня снабдить указами». Но с Франциею уже покончили; через два месяца (5/16 декабря 1726) последовало и было принято для цесаревны предложение двоюродного брата герцога Голштинского, Карла, епископа Любского.
А между тем вопрос о престолонаследии не переставал волновать всех. В народе высказывалось решительное сочувствие к великому князю Петру; приверженцам дочерей Петра надобно было приготовляться к страшной борьбе, только задержанной малолетством Петра, давшим возможность возвести на престол Екатерину; приверженцам цесаревны надобно было действовать с особенною энергиею и, главное, с единством; но последнее рушилось: от них отстал Меншиков!
В конце 1725 года в Сенате был жаркий спор: читали донесение Миниха, что ему необходимо 15.000 солдат для окончания Ладожского канала. Толстой и неразлучный с ним Апраксин начали поддерживать требование Миниха, представляли всю пользу от канала, упоминали и о том, что предприятие должно быть окончено из уважения к памяти Петра Великого. Меншиков возражал, что солдаты гибнут на работах: не за тем они набраны с такими издержками и заботами, чтобы землю копать. «Но войско должно же быть занято! – отвечали Толстой и Апраксин: войско занято, а между тем издержки на наем посторонних работников