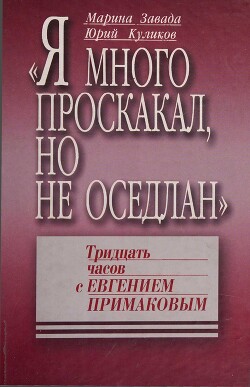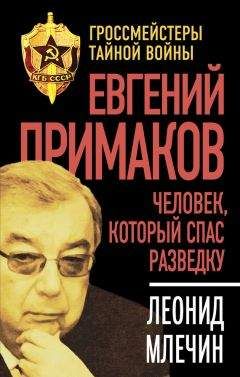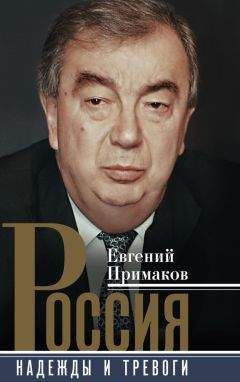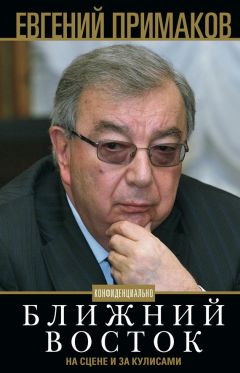— Ирина Борисовна, у вас был период, когда казалось, что ничего хорошего в жизни больше быть не может?
— Конечно, как у любого живого человека. Мне было около сорока. Не покидало чувство, что теперь все пойдет только под горку. Семейная жизнь разваливалась. И одновременно все распадалось и рушилось в стране. Шел конец восьмидесятых. Я жила в одном из переулков на Чистых прудах, и напротив моего дома много построек разломали. Представьте: промозглая осень, руины на месте некогда чудных особняков, торгующие на каждом углу тетки… И на такое настроение легла прочитанная горькая книга — бунинские «Окаянные дни»… Что говорить, многие из нас пребывали тогда в состоянии тревожной депрессии.
— На долю Евгения Максимовича выпали тяжелейшие потери: смерть взрослого сына, жены, с которой прожил тридцать шесть лет.
— Тридцать семь, без крох…
— Но и вы «прошли частокол испытаний». Помните эту строчку из посвященного вам стихотворения пациента Примакова?
— Это метафора. Или гипербола. Потому что у меня была обычная жизнь обычной советской женщины.
— Но, может, как человек, небезразличный к вам, Евгений Максимович что-то воспринимал обостренно субъективно?
— Догадываюсь, что он имел в виду. Я никогда не работала ни в какой другой медицинской системе, кроме Четвертого управления. Пациенты были люди начальствующие. Непростые на службе и соответственно в быту, в общении с доктором. Наверное, мои усилия найти контакт с таким сложным контингентом проницательный Примаков и назвал «частоколом испытаний».
— Если без эвфемизмов, то досаждали чванство, спесь?
— Я это оставляю за скобками. Не должен врач плохо говорить о пациентах. Даже без фамилий. Больной человек не бывает с хорошим характером. В свое время очень опытный врач Вшгентина Михайловна Ла-пенкова сказала смущенным докторишкам-ординаторам, которых впервые привели в клинику Четвертого управления: «Абстрагируйтесь от того, кто перед вами. Должность пациента остается за порогом больницы. Иначе будете нервничать и совершать врачебные ошибки». Мне это сильно в душу запало.
— Вас, видимо, насквозь «просветили» перед тем, как взять на работу?
— Не могу сказать, что были особые проверки. Заполнила подробные анкеты, прошла собеседования. Я училась в Ставропольском медицинском институте…
— Там, где дочь и зять Горбачева?
— Они были на три или четыре курса младше меня. Безусловно, я видела Ирину. Дочь первого секретаря крайкома партии не знать в институте не могли. Тихая, скромная девочка, отлично занималась. Больше мне нечего о ней сказать. Вскоре я уехала из Ставрополя. Как закончившей вуз с красным дипломом мне предложили поступить в московскую ординатуру. Когда на комиссии по распределению сообщили, что ординатура при Четвертом главном управлении, я испугалась. Почему-то решила, что это связано с милицией. Уж больно сурово звучало название.
Нет, до каких-то седьмых колен меня не проверяли. Моя мама из семьи репрессированных. Ее отец был расстрелян как «враг народа». Мамина мама — баба Вера отсидела в лагерях, потом мучительно искала детей, которых разметало по разным приютам. Она показывала мне бумажку о реабилитации деда. Все, что осталось от человека. Ужасное чувство… Но это я к тому, что в Четвертое управление и таких, как я, в то время уже брали.
В Москве вышла замуж за своего коллегу — врача-рентгенолога. Обоих распределили в санаторий «Барвиха». Вы проезжали мимо, когда к нам на дачу ехали. Родилась дочка. Лет через девять-десять меня назначили заведующей спецотделением санатория, где лечились генсеки, члены Политбюро, министры. Тяжело вздыхаю оттого, что не терплю административную работу. Нахально скажу: вполне с ней справлялась. Но я люблю отвечать за себя, меня тяготила необходимость командовать… В общем, дни шли своим чередом. И вдруг является пациент, на чьей медицинской карте выведено: «Примаков Евгений Максимович».
— Известно, чем стала для лечащего врача рутинная встреча в клиническом санатории…
— Вы знаете, какого-то потрясения вначале не было ни у меня, ни, очевидно, у него. Очередной доктор, очередной пациент… Единственное, что выбивалось из ряда, — его своеобразная «история болезни» со скудными однотипными записями: «Приглашен на диспансеризацию. Не явился». «Просьба прийти на профосмотр. Не явился». Видимо, доктора корили за то, что пациент категорически не посещал поликлинику. Последняя строчка была почти экспрессивной: «Во время пребывания в санатории „Барвиха" просьба убедить пациента пройти диспансеризацию, ввиду того что он годами не является на профилактический осмотр».
— Безразличие к своему здоровью было связано у Евгения Максимовича с недавними утратами?
— И это. И то, что какой занятой человек, здоровый нормальный мужчина будет бегать, себя проверять? На мой взгляд, нормальные люди так себя и ведут. Идут к врачу, когда заболело. Не знаю, что подвигло Примакова приехать в «Барвиху». Вероятно, кто-то ему сказал: есть возможность пожить в санатории и обследоваться, не прекращая работы. Но я так предполагаю, потому что обследовать он себя не собирался.
Утром Евгений Максимович плавал в бассейне. Думаю, это главное, что его держало в «Барвихе». Он обожает плавать как несостоявшийся моряк. Затем сразу уезжал на работу. У нас это разрешалось, надо было только поставить в известность дежурный персонал. Возвращался поздно, бог знает когда. Ужинал и ложился спать. Собственно, вел себя, как в гостинице во время командировки. А поскольку был вдов, то, наверное, попутно решал какие-то свои бытовые проблемы. Грубо говоря, стакан чая, горячая еда…
Невзирая на его напряженный график, я твердо решила убедить Примакова пройти диспансеризацию. Он долго отнекивался и нехотя сдался под натиском главного аргумента: банальные обследования займут не более получаса в день.
— Медсестра за ручку водила?
— Медсестре он не дался. За ручку водила я. Совместные походы сопровождались шутливыми беседами, так незаметно всю диспансеризацию и провели. Пробыл Евгений Максимович в «Барвихе» от силы неделю. Ну, как — пробыл? Переночевал. Уезжая, Примаков попросил мой рабочий телефон: «Если будут какие-то вопросы, можно к вам обратиться?» — «Пожалуйста». Через несколько дней — звонок: «Ирина Борисовна, мне в нынешнем моем положении, — его в течение этих нескольких дней избрали кандидатом в члены Политбюро, — полагается личный врач. Не хотите им стать?» Я молниеносно ответила: «Да». — «Благодарю. Всего хорошего», — и положил трубку. А я осталась сидеть чуть ли не в оторопи: «Господи, ну почему я, ничего не взвесив, сразу дала согласие?»
Может, все дело в том, что было уже больше семи вечера и я очень устала? За день накопилась куча неприятных ситуаций: протекшая труба, скандал между санитарками, вызов «на ковер» к главному врачу… И еще целая стопка «историй болезни» передо мной. Или что-то другое, пока неосознанное побудило меня с такой готовностью согласиться? Во всяком случае, я тут же пожалела о содеянном. Но было поздно. Наутро мне сообщили, что поступил звонок из Управления. В двадцать четыре часа я поменяла свой статус: стала личным доктором Примакова и его семьи.
— Вы думаете, Евгений Максимович предложил вам стать его лечащим врачом, потому что в душе у него уже что-то шевельнулось?
— Вот об этом я его потом спрашивала. Да, говорит, почувствовал симпатию. Возможно, доверие. Но он не как я, сломя голову, принял решение. Советовался со своими друзьями-врачами. Тогда был жив очень близкий друг Примакова академик Владимир Иванович Бураковский. С ним разговаривал, еще с одним академиком — Арменом Бунатяном, он анестезиолог-реаниматолог. С Давидом Иосифовичем Иоселиани, ныне главным кардиологом Москвы, директором Центра интервенционной кардиоангиологии. Теперь это и мой близкий друг.
Две кандидатуры отвергли: санитарного врача (из врачебного резерва для таких случаев) и реаниматолога. Бураковский пошутил: «Тебя реанимировать рано. Нужен хороший терапевт». И тут Примакова осенило: хороший терапевт был в «Барвихе». Позвонил. И я стала как бы его тенью. Наподобие охраны. Только у охраны посменная работа, а врач должен двадцать четыре часа в сутки, в любое время дня и ночи быть наготове. (Пауза.)