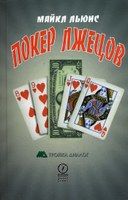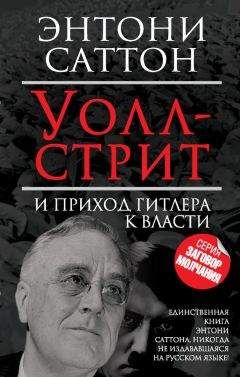Ознакомительная версия.
Но если утечку организовали, чтобы спасти отдел муниципальных облигаций, то добились прямо противоположного. По заявлению Гутфренда, в результате публикации ему пришлось уволить еще больше людей, чем планировалось ранее. Так что, пожалуй, целью утечки не была попытка в последнюю минуту спасти ситуацию. А что, если преждевременной публикацией была достигнута как раз нужная цель? Кто выиграл от этой утечки? Если мотивом была месть Горовицу, то никто. К тому же месть слишком слабый мотив, чтобы оправдать риск быть пойманным. В случае поимки автор утечки ломал всю карьеру. От одной мысли о том, что ты будешь разоблачен и унижен Джоном Гутфрендом, любой член Совета директоров должен был бы окаменеть. Может быть, страх и является ключом к отгадке: кто меньше всего боялся Джона Гутфренда? Элементарно. Сам Джон Гутфренд.
Понимаю, что это уже похоже на бред. И когда коллеги высказали гипотезу, что это сам Гутфренд слил информацию, чтобы облегчить увольнения, я расхохотался. Но эта идея засела в мозгу, потому что я не мог отделаться от впечатления, что уж слишком охотно Гутфренд использовал утечку как предлог для последующих действий. Утечка оказалась его палочкой-выручалочкой. Если уж все всё узнали из газеты, увольнения стали неизбежными. «Понимаете, – мог он сказать, – это уже опубликовано в „New York Times", и будь проклят этот болтливый ублюдок». Впрочем, гипотеза оставалась уязвимой. Ведь не мог Гутфренд не понимать, что в конечном итоге такой утечкой он дискредитирует самого себя.
Анонимность информатора бросила тень на весь Совет директоров: каждого можно было подозревать. Те немногие директора, которые не участвовали в работе совета, отказывались обсуждать любые щекотливые сюжеты в присутствии членов Совета директоров. Возникший на самом верху фирмы раскол вышел наружу. Один воинственно настроенный директор группы заявлял каждому члену совета: «Виноват, но, пока мы не найдем информатора, мы не можем доверять ни одному из вас». Рассказы о такого рода доблестных поступках мгновенно делались известны каждому [Информатора так и не нашли. Как мне рассказывали, даже в октябре 1988 года поиски все еще продолжались.].
Во мне нарастало чувство беспомощности. Я мог только наблюдать за происходящим. Способны ли вообще руководители нашей фирмы отвечать за действия свои или своих подчиненных? Неужели у них не осталось ни малейшего чувства чести? Если бы такая утечка произошла в правительстве Британии, за ней последовал бы шквал отставок. Но наши вожди, судя по всему, не несли ответственности за свои ошибки. Похоже, что с каждым новым скандалом они начинали жизнь заново и говорили сами себе, что сделанного не воротишь и какая может быть польза для фирмы от ковыряния в ране (имея в виду собственную отставку). У меня было чувство, что по крайней мере частичной причиной наших бедствий было то, что люди наверху мало что теряли даже в случае полного краха империи [Так оно и было. К концу года ни один из членов совета не ушел в отставку. Том Штраус получил премиальных на 2,24 миллиона долларов, Билл Войт – 2,16 миллиона, а Дейл Горовиц, что самое поразительное, тот самый Горовиц, отдел которого разогнали, получил 1,6 миллиона. Гутфренд, однако, воздержался от премии и выплатил себе только 300 тысяч долларов жалованья и еще 800 тысяч в виде возмещения понесенных расходов. В качестве премиальных он получил опцион на акции на сумму 300 тысяч долларов, который в данный момент уже стоит более 3 миллионов.].
Но хуже всего, пожалуй, было то, что они нарушили единственное обещание, данное всем новым служащим фирмы при поступлении на работу. Большинство тех, кто работал с муниципальными облигациями и на рынке денег, попали туда по распределению после учебных курсов. Никто их не спрашивал, хотят они в эти отделы или не хотят. Я был очень рад, что в свое время не поверил Джиму Мэс-си, который призывал нас, как и все другие классы, расслабиться и дать фирме самой выбрать отдел для каждого. Хорошая работа везде вознаграждается, заверял он нас. И многие ему верили. Когда фирма нарушила договор, заключенный с Леви Раньери, она сама себе подрезала крылья.
К концу этого скверного дня нервозность не уменьшилась, особенно у нас, в Лондоне. Информатор сказал газете, что планируется увольнение тысячи человек. Пятьсот уже были на улице. Значит, дело еще не кончено. Кто же на очереди?
Среда, 14 октября 1987 года: День третий. Президент Том Штраус явился сообщить нам, что, по общему мнению, именно лондонское отделение больше всего нуждается в сокращениях. Диагноз был поставлен еще месяц назад, когда наш директор провалился на выступлении в нашу защиту перед нью-йоркским комитетом по перестройке фирмы. Вместо того чтобы доказать оправданность нашего штатного расписания или структуры, он все свое выступление посвятил доказательству того, что в падении доходов его личной вины нет совсем. Такая позиция, естественно, расстроила Гутфренда, о чем нам теперь и сообщили. У членов комитета создалось о нас очень неблагоприятное впечатление. По справедливости винить их было не в чем. Мы и в самом деле работали не слишком успешно.
Больше всего изматывает ожидание. Никто на лондонском торговом этаже не мог быть уверен, что лично он не намечен под сокращение, а при этом было известно, что не менее трети сотрудников будет уволено. Каждый, в том числе и я, считал себя незаменимым для будущего процветания Salomon Brothers, но никаких гарантий подобные иллюзии не давали, и все это знали. Я начал задумываться: что делать, если меня уволят? Потом замаячил другой вопрос: а что делать, если меня не у водят'! Возникло неожиданное ощущение, что с фирмой мало что связывает. Каждый из руководителей групп – наши проводники по джунглям – составил список своих подчиненных в порядке убывающей их полезности. Комитет директоров лондонского отделения собрался в одной из обеденных зал, декорированных в стиле «Унесенные ветром», и приступил к изучению этих списков, двигаясь снизу вверх. На своего проводника по джунглям я начал посматривать с подозрением.
Пятница, 16 октября 1987 года: День пятый. Рано утром впервые за сотни лет по Лондону пронесся чудовищный ураган. Деревья вырывало с корнем, падали столбы электролиний, оконные стекла не выдерживали порывов ветра. Добираться до работы было жутковато: пустые улицы и закрытые ставни магазинов. На станции Виктории собралась толпа, но никто никуда не двигался: поезда не ходили. Все выглядело как в фильме про ядерную зиму или в сцене из постановки «Бури». Калибан не мог бы выбрать лучший день для неистовства.
Для ста семидесяти сотрудников лондонского отделения это был дурной день. Люди перелезали через поваленные деревья, преодолевали груды мусора, лужи и потоки воды, чтобы добраться до своего рабочего места и узнать, что они уволены. Другим пришлось перенести томительную пытку ожиданием. Из-за шторма электричество было отключено, и, сидя буквально в полутьме, люди часами ждали, когда им сообщат, что теперь они безработные. Большинство сшивались вокруг своих рабочих столов. Время от времени у кого-то на столе звонил телефон, и одного за другим нас выдергивали на судилище. Самым ужасным была не потеря дохода, а замешательство и стыд от собственной неудачи. Работать у нас – это была завидная доля, жизненный успех, и все сроднились с этим. Успех был так же естествен и привычен, как собственные ноги. Увольнение было как внезапная инвалидность, нечто отвратительное и постыдное. Очень немногие смогли отнестись к ситуации разумно и холодно и в ожидании решения комитета начали звонить в поисках новой работы.
Некоторые проявили еще большую предприимчивость. Пронесся слух, что все сокращения коснутся только отдела облигаций. И это было правдой. Глава отдела акций Стенли Шопкорн занял решительную позицию. Он заявил, что лучше сам подаст в отставку, чем уволит хотя бы одного из своих. Выяснив, что из отдела акций никого не увольняют, самые предприимчивые начали переговоры – а как бы к вам на работу. (Наконец-то и над отделом акций засияло солнце! Но, увы, всего лишь на денек.) Однако это была попытка идти против времени. Кому сразу удалось договориться о переходе в отдел акций, те торжествовали очень недолго. Когда их увольняли из отдела облигаций, они теряли право появляться на торговом этаже. Стоило им выйти из комнаты, где решались тогда судьбы, охранник отбирал пропуск и выпроваживал их на улицу.
Руководство пошло по линии наименьшего сопротивления и увольняло тех, кто последним пришел в фирму, так что все это быстро стало напоминать избиение младенцев. В результате сама идея сокращений лишилась смысла. Увольнение десятка геков обеспечивает примерно такую же экономию фонда зарплаты, как увольнение одного немолодого (лет тридцати пяти) директора группы. Но молодых увольнять легко, потому что они еще не успели обрасти связями в фирме. За них некому вступиться. Мое положение было надежным, отчасти потому, что я, как это ни смешно, считался уже старослужащим, а отчасти потому, что у меня были друзья на влиятельных должностях. К тому же по доходности я был среди двух-трех лучших забойщиков конторы.
Ознакомительная версия.