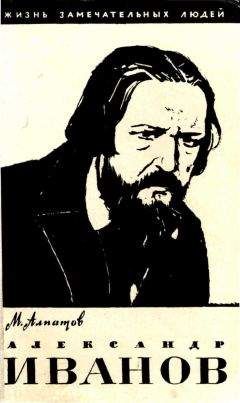Особенно малоблагоприятное впечатление произвела на Иванова среда художников. Надо думать, он не без волнения переступал порог той самой академии, которой он в юности был столь многим обязан, которая доставила столько огорчений его отцу и о которой он в годы зрелости не мог думать без содрогания. Он побывал в мастерской того самого Басина, которому суждено было в свое время сменить «высочайше» отставленного отца, но, видимо, остался неудовлетворенным постановкой рисунка обнаженной фигуры в академии: он отметил лучшие этюды в манекенной, где ученики писали ткани. Но на месячном экзамене ему бросилось в глаза, как вместо обобщенного классического рисунка, побеждала точная копировка бородатых, плохо сложенных натурщиков. От его внимания не ускользнуло, что над строго построенным рисунком возобладала тщательная его утушевка. Эскизы учеников он нашел совсем плохими — и не удивился этому: кроме Брюллова, сами профессора их не умели делать. Он не стал много распространяться по поводу коренных изъянов тогдашней академии и всего лишь отметил их для себя как нечто вполне закономерное.
Среди художников он встретил некоторых из своих старых знакомых, и прежде всего Иордана и Бруни. Федора Ивановича он заметил где-то на гулянье в публичном саду: он торопливо семенил за своей молодой супругой. Узнав Иванова, тот сделал движение, чтобы броситься навстречу к нему, но супруга его гордо проплыла, и престарелый супруг потрусил за ней. Впрочем, позднее приятели встретились вновь, и на этот раз добрейший Федор Иванович дал волю дружеским чувствам.
Отношения с Бруни сложились несколько иначе. В чине ректора академии он приходился Иванову чем-то вроде начальника, и потому пришлось явиться к нему с визитом. Случилось так, что произошло это в тот самый момент, когда Бруни только что вернулся с дачи, и от Иванова не ускользнуло, что со своим визитом он явился не вовремя. В дальнейшем впечатление это несколько сгладилось, хозяин даже повел своего гостя к себе в мастерскую. Если наряду с огромными тусклыми и скучными заказными образами здесь еще находился незадолго до того выполненный золотистый «Вакхант», то Иванов должен был вспомнить те юношеские работы, с которых они оба когда-то начинали свою деятельность в Риме. Впрочем, теперь настоящей дружбы между ними быть не могло. И когда через некоторое время Иванов вновь явился к Бруни по официальному делу, тот напустил на себя важность и отказался исполнять приказ министра двора, пока он не будет доставлен ему по всей форме, с обращением прямо к нему, и Иванову пришлось снова сломя голову нестись из Петербурга в Царское Село и просить написать новый именной приказ и снова доставлять его ректору.
Но главное дело, ради которого Иванов явился в Петербург, — устройство выставки его картины и получение денег за нее от правительства — двигалось как-то очень медленно. Художнику не было отказано начисто. Начальство как бы шло навстречу, ему обещали содействие, обнадеживали его. Но когда дело доходило до исполнения обещаний, возникали препятствия, дело останавливалось, какое-то одно колесико механизма отказывалось крутиться и тормозило остальные, а если первое препятствие удавалось преодолеть, неожиданно оказывалось, что возникали новые. Все эти важные и чиновные особы, с которыми Иванову приходилось иметь дело, конечно, не были в тайном сговоре друг с другом, но каждый из них безошибочно и неизменно действовал во вполне определенном направлении, так что вместе с другими они творили одно дело, и это дело сводилось к тому, что они всячески препятствовали художнику. Более чем за двадцать лет своей деятельности Иванов мог узнать, что значит быть зависимым от сильных мира сего. Но тогда он писал письма, взывал к близким — у себя дома, в своей мастерской он был хозяином, и единственной заботой его было не пускать к себе посторонних. Теперь его положение круто переменилось. Он сам должен был стучаться в дверь, выступать ходатаем по делам, выжидать благоприятной минуты и ловить, где только возможно, этих сильных мира сего. Озабоченный тем, чтобы продать хотя бы фотографии со своей картины, он переставал чувствовать себя художником, и ему казалось, что он превратился в какого-то неудачливого и навязчивого комиссионера.
Заручившись «покровительством» великой княгини, художник рассчитывал, что ему не придется иметь дела с Петербургской таможней и ящики с его библейскими эскизами будут прямо с парохода доставлены в Петербург. Но случилось так, что по дороге ящики оказались разбитыми. В контору Елены Павловны были доставлены его листы в распакованном виде. Листов этих Иванов до сих пор не решался показать никому, кроме своего брата. Теперь в конторе лежала груда листов, и любопытные чиновники разглядывали эту небывалую еще контрабанду и отпускали в адрес творений художника свои замечания, вроде квартального в мастерской Черткова. Скоро по городу распространился слух, что художник собирается «выдать» свою иллюстрированную библию.
Время, проведенное Ивановым в Петербурге, было самое суматошное в его жизни. По случаю лета все, что в столице было именитого, находилось в своих загородных резиденциях, и потому каждый день нужно было куда-то в экипаже скакать или отправляться на пароходе, и всегда куда-то спешить, всегда волноваться, чтобы не опоздать. Там нужно было быть к званому обеду, здесь заехать на «чашку чаю», в третье место за получением бумаги, в четвертое — просто напомнить о себе. В глазах художника рябило от обилия новых лиц, которые проходили перед ним: здесь были важные и недоступные сановники и чиновники различных рангов, гофмаршалы и престарелые фрейлины, пронырливые секретари и лакеи в роскошных ливреях и множество всякого рода титулованных и нетитулованных особ, с каждым из которых. нужно было говорить соответственно его положению в свете и, главное, его собственному представлению о своем достоинстве.
Он видел, как, на параде по случаю освещения Исаакия звонко отбивали шаг полки за полками, над ними колыхались знамена, сверкали золотые ризы целой армии попов и архиереев, блистали мундиры, галуны, позументы, ордена стотысячной толпы — все это угнетало своей роскошью и пустым великолепием.
Ему запомнилось, как его призвали в Зимний для представления императору, как к крыльцу подкатил экипаж и из него вышел он сам в сопровождении свиты, как великий князь пропустил художника вперед, его удивило, что Александр подал ему руку и стал расспрашивать о картине, но особенно поразило его то, как придворные, не стесняясь присутствия художника, стали переговариваться шепотом между собой (он понял — о его судьбе), как будто он был какой-то марионеткой или неодушевленным предметом.