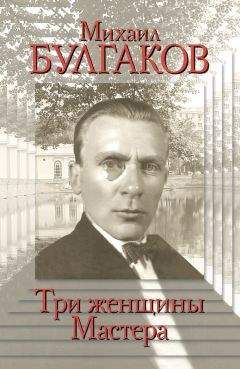Ознакомительная версия.
Точно так же в «Днях Турбиных» Алексей Турбин предупреждает: «Жену не волновать, господин Тальберг!»
И Ермолинский, и Елена Сергеевна полагали, что булгаковская болезнь связана с запретом «Батума». Ведь она началась точно в тот день, 14 августа 1939 года, когда направлявшийся в Батум во главе бригады мхатчиков получил телеграмму, извещавшую, что надобность в поездке отпала. Именно в этот день Михаил Афанасьевич почувствовал резкое ухудшение зрения – первый признак начинающегося нефросклероза.
М.А. Чимишкиан, проведшая немало дней как сиделка у постели больного Булгакова, вспоминала: «Шли годы. Михаил Афанасьевич чувствовал себя все хуже и хуже. И вот наступил такой момент, когда врачи потребовали круглосуточного дежурства у больного. Предлагали много медсестер из Литературного фонда и клиники Большого театра, но М.А. отказался и просил вызвать его младшую сестру Елену Афанасьевну и обратился ко мне с просьбой (в надежде, что Сергей Александрович не будет возражать) переехать к нему в дом на то особенно тяжелое время. Что я и сделала. М.А., как врач, предвидел все проявления болезни, которые его ожидают, и предупредил, чтобы мы не пугались, когда так случится. Несмотря на свое тяжелое состояние, он еще находил в себе силы острить и шутить. Он говорил: «Не смейте меня оплакивать, лучше вспоминайте меня веселого».
Какое-то время Булгаков все же надеялся выкарабкаться. Так, он писал драматургу А.М. Файко 1 декабря 1939 года: «Мои дела обстоят так: мне здесь стало лучше, так что у меня даже проснулась надежда. Обнаружено значительное улучшение в левом глазу. Правый, более пораженный, тащится за ним медленнее. Я уже был на воздухе в лесу. Но вот меня поразил грипп. Надеемся, что он проходит бесследно. Читать мне пока запрещено. Писать – вот видите, диктую Ел. С. – также».
Свое свидетельство о булгаковской болезни оставила и жена Лямина Н.А. Ушакова: «Шел 1939 год. Я живу одна… Михаил Афанасьевич тяжело и безнадежно болел. Временами ненадолго наступало улучшение в его самочувствии. И вот в один из таких дней он просит зайти за ним, чтобы немного прогуляться. Выходим на наш Гоголевский бульвар, и вдруг он меня спрашивает: – Скажи, как ты думаешь, может так случиться, что я вдруг все-таки поправлюсь? И посмотрел мне в глаза. Боже мой! Что мне сказать? Ведь он лучше меня знает все о своей болезни, о безнадежности своего положения. Но он хотел чуда и, может быть, верил в него. И ждал от меня подтверждения. Что говорила я, уже не помню, и не помню, как мы вернулись домой. Но забыть этой прогулки, забыть его взгляда никогда не смогу».
С.А. Ермолинский подробно рассказал о своих визитах к Булгакову во время последней болезни: «Когда он меня звал, я заходил к нему. Однажды, подняв на меня глаза, он заговорил, понизив голос и какими-то несвойственными ему словами, стесняясь:
– Что-то я хотел тебе сказать… Понимаешь… Как всякому смертному, мне кажется, что смерти нет. Ее просто невозможно вообразить. А она есть.
Он задумался и потом сказал еще, что духовное общение с близким человеком после его смерти отнюдь не проходит, напротив, оно может обостриться, и это очень важно, чтобы так случилось…
– Фу ты, – перебил он сам себя, – я, кажется, действительно совсем плох, коли заговорил о таких вещах. Ты не находишь?
– Не нахожу, – буркнул я и тревожно подумал: «Какое у него доброе лицо. Как у ребенка».
Без сомнения, он понимал, что с ним происходит, и готовился к последним физическим страданиям. Это подтверждалось и тем, что, когда мозг его был еще светел, он вызвал свою любимую младшую сестру Лелю (Елену Афанасьевну, по мужу Светлаеву) и шепнул ей, чтобы она разыскала и попросила заехать к нему Татьяну Николаевну Лаппа. Это была его первая жена, с которой он разошелся давно, в 1925 году, уйдя к Л.Е. Белозерской.
Через несколько дней Леля сообщила ему, что Татьяны Николаевны в Москве нет, она, по-видимому, давно уехала, и где живет – неизвестно. Зрение у него ухудшалось с каждым днем, и слушал он Лелю напряженно. Он знал, что где-то рядом стоит Лена, и невидящий взгляд его был виноватый, извиняющийся, выражал муку. Лена спросила его с печальной укоризной:
– Миша, почему ты не сказал мне, что хочешь повидать ее?
Он ничего не ответил. Отвернулся к стене. Должен сказать, что я не только никогда не видел Татьяну Николаевну, но и до сих пор очень мало знаю о ней. На мои расспросы Булгаков всегда отвечал коротко, даже как-то сердито, с недовольством, уходил от разговора. Естественно, пришлось молчать. Знаю только, что он женился еще студентом, в 1913 году, а после окончания университета вместе с ней отправился в село Никольское земским врачом, что с нею вернулся в Киев, и они, тоже вместе, прошли все годы Гражданской войны. Она была рядом и в Киеве, и когда отступали с деникинцами на юг, и когда бежали от них, он лежал в тифу, а потом оба мыкались во Владикавказе…
Это был сложнейший период его жизни, и не только в житейском смысле (голод, нищета, бесприютность, малоудачные и случайные литературные опыты). Сложность заключалась в том, что надо было разобраться в тех событиях, в гуще которых он очутился. Надо было многое понять и прежде всего понять самого себя. От «деникинского балагана» он отвратился, но осознание полнейшего краха интеллигенции, связавшей свою судьбу с белым движением, как впоследствии он показал это в «Днях Турбиных» и в «Беге», пришло не сразу. Должно быть, свой внутренний идейный путь Булгаков прошел неоднозначно».
Татьяна Николаевна словно предчувствовала, что могла понадобиться Булгакову. Она свидетельствовала в интервью Леониду Паршину: «…В 1940 году я должна была поехать в Москву в марте, но установилась ужасная погода, решила ехать в апреле. И вдруг мне Крешков газету показывает – Булгаков скончался. Приехала, пришла к Леле. Она мне все рассказала, и что он меня звал перед смертью… Конечно, я пришла бы. Страшно переживала тогда. На могилу сходила. Потом мы собрались у Лели. Надя, Вера была, Варя приехала. Елены Сергеевны не было. У нее с Надей какие-то трения происходили. Посидели, помянули. В стороне там маска его посмертная лежала, совершенно на него не похожа… Вот и все».
Весьма показательно, что своей последней женой Булгаков захотел увидеть только первую жену, Татьяну Николаевну Лаппа, а не вторую жену, Любовь Евгеньевну Белозерскую. Это показывает, кого из них он больше любил и помнил. Вероятно, Люся, как он называл Елену Сергеевну (другие прозвища Лю, Ку, Кука, Купа, Клюник и др.), во многом напоминала ему Тасю. Так третья любовь чуть-чуть не пересеклась с первой.
Незадолго до кончины смертельно больной Булгаков признался Ермолинскому: «– Если жизнь не удастся тебе, помни: тебе удастся смерть. Это сказал Ницше, кажется, в «Заратустре». Обрати внимание – какая надменная чепуха! Мне мерещится иногда, что смерть – продолжение жизни. Мы только не можем себе представить, как это происходит… Я ведь не о загробном говорю, я не церковник и не теософ, упаси боже. Но я тебя спрашиваю: что же с тобой будет после смерти, если жизнь не удалась тебе? Дурак Ницше… – Он сокрушенно вздохнул. – Нет, я, кажется, окончательно плох, если заговорил о таких вещах… Это я-то?..»
Ознакомительная версия.