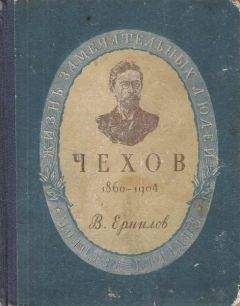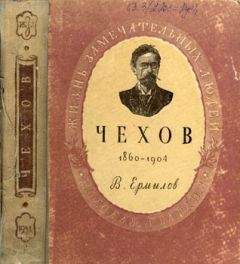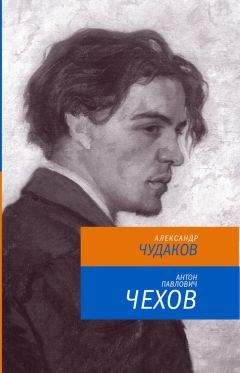Чехов очень не хотел, чтобы его Тригорин воспринимался как фотография реального лица, и был огорчен тем, что в сюжете его пьесы многие узнали историю романа Потапенко и Лики Мизиновой. Он писал о «Чайке»: «Если в самом деле похоже, что в ней изображен Потапенко, то, конечно, ставить и печатать ее нельзя».
«Чайка» провалилась на сцене Александрийского театра не по этой причине.
Пьеса, столь дорогая Чехову, в которую он вложил столько заветного, провалилась.
Но пока этот жестокий удар еще не свалился на него, в промежутке между окончанием работы над «Чайкой» и постановкой ее на сцене Чехов создал еще одну из своих классических пьес.
В человеке должно быть все прекрасно!
Тема «Дяди Вани» — жизнь «маленьких людей», с ее незаметными страданиями и самоотверженным трудом во имя чужого счастья, тема красоты, пропадающей понапрасну.
Из воспоминаний Н. К. Крупской мы знаем, что Ленин высоко ценил эту пьесу.
Горький писал Чехову после спектакля «Дяди Вани» (пьеса была поставлена на сцене Художественного театра в октябре 1899 года, до этого она с успехом шла в провинции):
«Ваше заявление о том, что вам не хочется писать для театра, заставляет меня сказать вам несколько слов о том, как понимающая вас публика относится к вашим пьесам. Говорят, например, что «Дядя Ваня» и «Чайка» — новый род драматического искусства, в котором реализм возвышается до одухотворенного и глубоко продуманного символа. Я нахожу, что это очень верно говорят. Слушая вашу пьесу («Дядю Ваню». — В. Е.), думал я о жизни, принесенной в жертву идолу, о вторжении красоты в нищенскую жизнь людей, и о многом другом, коренном и важном. Другие драмы не отвлекают человека от реальностей до философских обобщений — ваши делают это…»
Самим названием пьесы Чехов указывает на простоту, повседневность, обыкновенность и своих героев и их страданий.
Дядя Ваня и его племянница Соня всю жизнь свою работают не покладая рук для чужого счастья: для того чтобы создать материальное благополучие отцу Сони профессору Серебрякову, которого они привыкли считать талантливым, передовым, крупным ученым.
Серебряков, ныне уже отставной профессор, женат вторым браком на молодой красивой женщине. Его первая жена, мать Сони и сестра дяди Вани, умерла уже давно.
Имение, где трудятся дядя Ваня и Соня, принадлежало покойной матери Сони. Теперь оно принадлежит Соне. Дядя Ваня отказался в свое время от принадлежавшей ему доли наследства в пользу своей покойной сестры, которую он горячо любил. Благодаря его отказу их отец и имел возможность купить это имение. Отец уплатил за имение далеко не всю стоимость, образовался большой долг. В продолжение двадцати пяти лет дядя Ваня трудился для того, чтобы погасить долг и привести расстроенное имение в порядок. Двадцать пять лет работал он, «как самый добросовестный приказчик», получая нищенское жалованье от Серебрякова и высылая ему в столицу весь доход до последней копейки, чтобы Серебряков мог спокойно писать свои ученые труды и ораторствовать с кафедры. Дядя Ваня и Соня похоронили себя в четырех стенах, недоедали куска, не знали никакой иной жизни, кроме заботы о профессоре. Им даже и в голову никогда не приходило вспомнить о том, что и по существу и по закону имение принадлежит им, а не Серебрякову: они добровольно обрекли себя на роль безропотных, самоотверженных работников.
Дяде Ване сорок семь лет. Он — нищий. Он никогда не знал ни радости, ни отдыха.
И вот теперь, когда жизнь его на закате, у него открылись глаза на ужасную правду. Он понял, что отдал лучшие годы, молодость, всего себя на служение ничтожеству, «идолу». Он ясно увидел, что его кумир — просто напыщенная бездарность, набитая претензиями и самомнением, «старый сухарь, ученая вобла». Это стало особенно ясным теперь, когда Серебряков «вышел в отставку, и его не знает ни одна живая душа, он совершенно неизвестен; значит, двадцать пять лет он занимал чужое место». Двадцать пять лет читал он лекции об искусстве, ничего не понимая в искусстве, пережевывая чужие мысли, и, следовательно, двадцать пять лет дядя Ваня трудился для того, чтобы профессор Серебряков мог занимать чужое место.
Избалованный легко давшейся ему успешной карьерой, любовью женщин, работой на него дяди Вани и Сони, Серебряков бездушен, эгоистичен. За двадцать пять лет он ни разу не поблагодарил дядю Ваню, не прибавил ему ни копейки к его мизерному жалованью.
И вот он приезжает со своей красавицей женой в имение, чтобы по необходимости поселиться здесь навсегда; он вышел в отставку, у него не хватает средств для жизни в столице.
Его приезд нарушает весь строгий трудовой порядок жизни в доме. Профессор тиранит всех окружающих своими капризами, своей подагрой, своим черствым эгоизмом. Все в доме вынуждены заботиться только о нем.
Дядя Ваня переживает тяжелое состояние человека, которому под старость пришлось убедиться в бессмысленности всей прожитой им жизни. Если бы он не пожертвовал своих сил и способностей на служение «идолу», то он сам мог бы сделать много полезного, заслужить благодарность людей… Быть может, он был бы счастлив, мог любить и быть любимым!
Так приходит дядя Ваня к своему трагически запоздалому «бунту». Он как будто требует обратно свою загубленную жизнь. Он влюбляется в жену профессора. Он впервые в жизни начал пить. Его удручают мысли о том, что все потеряно, жизнь пропала.
А тут профессор подливает последнюю каплю в чашу. Он торжественно созывает домочадцев на совещание и объявляет им свой проект: продать имение, чтобы на вырученные деньги профессор мог жить в столице. Он не переносит жизни в деревне, он привык к городскому шуму.
Дядя Ваня потрясен. Мало того, что он отдал и все свои средства и всю жизнь Серебрякову. Теперь, когда он стал стар, его вместе с Соней, в благодарность за все, гонят в шею на все четыре стороны из родного угла.
Бунт дяди Вани доходит до своего апогея.
«Ты погубил мою жизнь! — кричит он Серебрякову:- Я не жил, не жил! По твоей милости я истребил, уничтожил лучшие годы своей жизни! Ты мой злейший враг!»
Профессор бросает ему в лицо: «Ничтожество!»
«Пропала жизнь! — восклицает дядя Ваня в полном отчаянии. — Я талантлив, умен, смел… Если бы я жил нормально, то из меня мог бы выйти Шопенгауэр, Достоевский… Я зарапортовался! Я с ума схожу…»
У нас не возбуждают улыбки недоверия слова дяди Ванн о том, что из него мог бы выйти большой человек. За время нашего знакомства с ним на протяжении трех актов мы успели почувствовать и его ум, и одаренность, и способность к подвигу самопожертвования во имя того, что казалось ему общей идеей: во имя науки, прогресса, разума, носителем которых представлялся ему Серебряков. Зная чеховских героев, мы не удивляемся, обнаруживая в них маленьких великих людей.