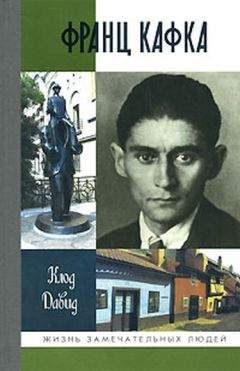Музыка — это дар, и тот, кто не получил этот дар в удел, должен мужественно снести неудачу. Но Кафка не останавливается на этом: он относится с недоверием к музыке, к ее очарованию, ее опасностям. В «Исследованиях одной собаки», большом рассказе последних лет, он подробно останавливается на этой теме. Собака, которая рассказывает историю, встречает однажды на дороге труппу из семи собак-музыкантов: «Все, все в них было музыкой — даже то, как поднимали и опускали они свои лапы, как держали и поворачивали голову, как бежали и как стояли, как выстраивались относительно друг друга, взять хотя бы тот хоровод, который они водили, когда каждый последующий пес ставил лапы на спину предыдущего и самый первый, таким образом, гордо нес тяжесть всей стаи, или когда они сплетали из своих простертых на земле тел замысловатейшие фигуры, никогда не нарушая рисунок». И музыка, которую они создают, кружит голову: «Как ни сопротивлялся я ей всеми силами, как ни выл, будто от боли, музыка, насилуя мою волю, не оставляла мне ничего, кроме того, что неслось на меня со всех сторон, с высоты, из глубины, отовсюду сразу, что окружало и наваливалось и душило, подступая в своем ярении так близко, что эта близь уже чудилось дальней далью с умирающими в ней звуками фанфар». В этом нескромном искусстве есть нечто неприличное: «Поначалу из-за слишком громкой музыки я не обратил на это внимания, но все они отбросили всякий стыд, докатились до такого неприличия и непотребства, как хождение на задних лапах. Фу ты, какое канальство! Они обнажились, выставляя напоказ свои бесстыдства, и делали это намеренно…». В афоризмах 1917–1918 годов уже встречались некоторые скептические рассуждения об искусстве: «Наше искусство заключается в том, чтобы быть ослепленным правдой: истинным является только обнаженный свет на гримасничающем лице, ничего более», или еще: «Искусство порхает вокруг правды, но с намерением вовремя остановиться, чтобы не обжечься». В искусстве есть ложь и бегство. Всякое искусство, которое кружит голову, увлекает, опьяняет на манер музыки, есть не что иное, как непристойный обман. Та единственная форма творчества, которую допускает Кафка, не приемлет эти неприличные уловки: это трезвое искусство немистификации, противоположность лиризма, точная и строгая проза, которая отвергает все формы опьянения.
Кафке кажется, что жизнь отказывает ему во взаимности; подводя итоги, он отмечает одни неудачи. «Без предков, без супружества, без потомков, с неистовой жаждой предков, супружества, потомков. Все протягивают мне руки: предки, супружество, потомки, — но слишком далеко от меня». «Жизнь моя до сих пор была маршем на месте, в лучшем смысле развивалась подобно тому, как развивается дырявый, обреченный зуб. С моей стороны не было ни малейшей хоть как-то оправдавшей себя попытки направить свою жизнь. Как и всякому другому человеку, мне как будто был дан центр окружности, и я, как всякий другой человек, должен был взять направление по центральному радиусу и потом описать прекрасную окружность. Вместо этого я все время брал разбег к радиусу и все время сразу же останавливался. (Примеры: рояль, скрипка, языки, германистика, антисионизм, древнееврейский, садоводчество, столярничанье, литература, попытки жениться, собственная квартира.) Середина воображаемого круга вся покрыта начинающимися радиусами, там нет больше места для новой попытки, «нет больше места» означает: возраст, слабость нервов, «никакой попытки больше» означает: конец». Эти строки написаны в 1922 году, в момент глубочайшего отчаяния; они относятся к числу лучших страниц «Дневника» и написаны за несколько дней до начала работы над «Замком». Но десятью годами ранее, в начале 1912 года, он уже писал нечто подобное: «Когда в моем организме прояснилось, что писание было самой продуктивной ориентацией моей натуры, все устремилось в этом направлении, забросив все остальные способности, направленные на удовлетворение потребностей в сексе, пище, питье, философских размышлениях и особенно в музыке. Я начал чахнуть во всех этих направлениях». Он не ожидал испытаний, чтобы узнать свою судьбу. Невозможно — и, впрочем, бесполезно — определить, какую часть в его истории занимала необходимость, а какую выбор. Его хрупкий темперамент, слишком суровое воспитание способствовали, без сомнения, той чувствительности, той крайней уязвимости, которые его отличали. Но в то же самое время, когда он отдавал себя в руки тому, что рассматривал как необходимость, он сам выбирал путь, по которому намеревался идти. Он его выбирал разными способами: ритмом жизни, замыслами, иногда иллюзорными или наполовину искренними, как его ложная любовь к Фелице Бауэр. Он часто обвинял отца в том, что тот вынудил его жить вне жизни — и в самом деле, нет сомнения в том, что именно взаимоотношения с отцом отлучили его от сексуальных вещей. Но, с другой стороны, он весьма чистосердечно признает свою часть личного решения и ответственности: «Все развивалось, — пишет он, например, в январе 1922 года, — просто. Когда я был еще доволен, я хотел быть недовольным и всеми средствами, которые предоставлялись мне временем и традициями, я загонял себя в недовольство, но хотел иметь возможность возврата. Итак, я всегда был недоволен, в том числе и своим довольством. Характерно, что при достаточной последовательности комедию всегда можно превратить в действительность. Мой духовный упадок начался с детской, правда, одновременно по-детски сознательной игры. Например, я заставлял лицевые мускулы искусственно подергиваться, шел со скрещенными на затылке руками по Грабену. Детская отвратительная, но успешная игра /…/. Раз возможно таким способом навлечь на себя несчастье, значит, все можно насильственно привлечь. Как бы ни казалось, что весь ход моего развития опровергает мое рассуждение, и как бы такая мысль ни противоречила моему существу, я никак не могу признать, что первые начала моего несчастья были внутренне необходимы, а если даже и была в них необходимость, то не внутренняя; они налетали, как мухи, и, как мух, их легко было прогнать».
Как бы там ни было, но идет ли речь о судьбе или выборе, или же о запутанной комбинации того и другого. Кафка живет — и ощущает, что живет, — в полной неудовлетворенности: он не испытывает ни одного из обычных желаний живущих; как и его охотник Гракх, он навсегда подвешен между жизнью и смертью; как и его сельский врач, он осужден блуждать в снежной пустыне. В размышлениях Кафки часто ставится вопрос аскетизма, который, скорее, предстает как недостаток, чем добродетель. Уже в афоризмах 1917 года он саркастически отмечал: «Он жрет отбросы с собственного стола; благодаря этому он, правда, какое-то время более сыт, чем все, но он отучается есть, сидя за столом; а из-за этого потом перестают поступать и отбросы». В 1920 году он обличает всю тайную суетность, жульничество, обман, которые сопровождают аскетизм: «Самыми ненасытными являются некоторые аскеты, они объявляют голодную забастовку во всех сферах жизни и хотят таким образом получить одновременно следующие результаты: 1. Голос должен сказать: «Хватит, ты достаточно голодал, теперь можешь есть, как другие, и это для тебя не будет считаться пищей». 2. Тот же голос должен сказать в то же время: «Теперь, после того как ты голодал так долго против воли, ты сможешь голодать с удовольствием; голод будет для тебя приятнее пищи (но в то же время ты на самом деле будешь есть)». Тот же голос должен сказать в то же время: «Ты одержал победу над миром, освобождаю тебя и от пищи, и от голода (но в то же время ты сможешь с таким же успехом как голодать, так и есть)». К этому добавляется другой голос, который всегда им беспрерывно говорит: «Это правда, что ты не голодаешь полностью, но у тебя добрая воля, и этого достаточно». Два года спустя эти размышления принимают форму рассказа, одного из наиболее заслуженно любимых рассказов Кафки — «Чемпион голодания» (или «Голодарь»). Герой этой истории более всего ненавидит моменты, когда, для поддержания здоровья, его заставляют прерывать голодание; он ни к чему не испытывает такого омерзения, как к пище, которую его принуждают проглотить; он ничего не понимает в похвалах, которые расточают ему женщины мира за его рекорды, — он подчиняется только своей природе и своему вкусу, он не делает ничего такого, что оправдывает восхваления. Как и несколько лет ранее Грегор Замза в «Превращении», он занимается поисками «неизвестной пищи», более ценной, чем обычный паек, но его голодание не позволяет ее найти. Мастер голода, несмотря на свою добросовестность и крайнюю искренность, не избегает противоречий аскетической жизни: «Мне всегда хотелось, чтобы все восхищались моим умением голодать», — сказал маэстро. «Что ж, мы восхищаемся», — с готовностью согласился шталмейстер. «Но вы не должны этим восхищаться», — произнес голодарь. «Ну, тогда мы не будем. Хотя почему бы нам не восхищаться?» — «Потому что я должен голодать, я не могу иначе». — «Скажи пожалуйста! — заявил шталмейстер. — Почему же это ты иначе не можешь?» — «Потому что я, — голодарь приподнял высохшую головку и, вытянув губы, словно для поцелуя, прошептал шталмейстеру в самое ухо, чтобы тот ничего не упустил: — потому что я никогда не найду пищи, которая пришлась бы мне по вкусу. Если бы я нашел такую пищу, поверь, я бы не стал чиниться и наелся бы до отвала, как ты, как все другие».