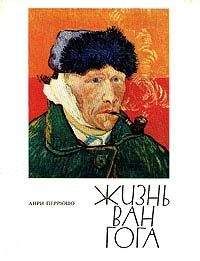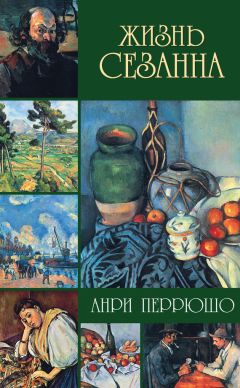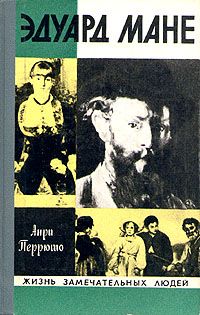Ознакомительная версия.
Все подробности своего переселения Винсент пространно излагал в письмах к Тео. Независимый и не терпевший над собой ни малейшей опеки в творчестве, в быту он был сама покорность. Он все более и более трагически воспринимал свой долг брату, который содержал его и давал ему возможность творить, и поэтому Винсент считал себя обязанным отчитываться перед ним не только в расходах, но и во всем своем поведении. Винсент не находил покоя, пока не доказывал брату, а заодно и себе самому разумность того или иного своего поступка. Весь олицетворение страстей и бурь, он осуждал страсти и бури и с ужасом отворачивался от богемы, от житейской безалаберности и всяких романтических манифестов, хотя, казалось бы, от него легко можно было бы ждать обратного. Но стоит только послушать, как Винсент рассуждает о Монтичелли: «Я все больше сомневаюсь в справедливости легенды о Монтичелли, который якобы беспробудно пил. Глядя на его произведения, я не могу представить, чтобы человек, нервы которого расшатаны потреблением абсента, мог создать такие вещи».
Чтобы быть достойным жертв, принесенных братом, а может быть, из каких-то остатков пуританства Винсент хочет вести образ жизни, как можно менее эксцентричный (в точном смысле этого слова), как можно более упорядоченный и незаметный. Быть вдохновенным художником? Нет! «Ведь я, по сути дела, рабочий». Именно в этом успокоительном образе Винсент хочет предстать в глазах брата и в своих собственных. Он строит планы размеренной гигиенической жизни: «Умывание холодной водой, простая здоровая пища, теплая одежда, удобная постель и никаких историй».
* * *
Винсент вновь начал писать красками, но он недоволен результатами своей работы, теперь он и в самом деле почувствовал себя в чужеродной обстановке. Дело идет к лету, майское солнце все окрашивает «зеленоватой желтизной». Пейзаж преобразился, стал более суровым. Сады, которые еще несколько недель назад стояли в цвету, не были совсем уж в диковинку Винсенту — они напоминали ему сады цветущих роз Ренуара. Новый облик окружающего мира приводит его в смятение, ускользает от него. Не этого ждал Винсент от солнца! Как передать на холсте этот интенсивный пейзаж, его линии, настолько чистые, что они кажутся почти абстрактными, пейзаж, построенный почти с архитектурной точностью? Как передать все это, оставаясь самим собой? Как примирить непримиримое: экспрессивные склонности художника барокко, для которого все в ритме, в движении, в становлении, все повод для пламенной патетической исповеди, и урок, который преподает ему земля Прованса, столь классическая в своей лучезарной незыблемости? Но Винсент не хочет признаться себе в противоречии между своей натурой и природой Прованса. Перед лицом мира, приводящего его в смятение, он идет на всевозможные хитрости, прибегает к уловкам. Он не только всячески избегает памятников романской эпохи, точно боится взглянуть на них в упор и слишком явственно услышать их голос; чтобы затушевать разрыв между собой и окружающим, он пытается преуменьшить значение характерных черт провансальского пейзажа, уложить его в более привычные рамки; если отвлечься от цвета, Прованс — та же Голландия, упрямо твердит Винсент. Он настаивает на этом сходстве. Он жаждет этого сходства.
Но эти рассуждения только доказывают, что Винсент отнюдь не скрывал от себя трудностей в решении поставленной перед собой задачи. Он их настолько не скрывал, настолько ясно представлял себе, как обманчиво внешнее сходство и как чужда его натуре провансальская земля, что то и дело вспоминал о Сезанне и его пейзажах (он вдруг начал сожалеть, что «видел слишком мало его картин»). Подчиненная строгой дисциплине патетика художника из Экса, его рационалистические композиции влекут Винсента, но не как цель, а как средство на пути к тому искусству, о котором он мечтает. Сам он не надеется стать творцом этого искусства, но, может быть, будущие поколения сумеют его создать. «Живописец грядущего, — увлеченно твердит Винсент, — это колорист, какого еще не знал мир».
Винсент уже взял на холсте несколько пробных аккордов. Стремясь постичь окружающий мир, он пишет натюрморты, они служат для него как бы стилистическими упражнениями. Один из них — натюрморт с кофейником — представляет собой вариацию на тему синего и желтого, центральную тему юга (небо и солнце), причем Винсент трактует ее с истинно классической строгостью и сдержанностью.
Письмо от брата принесло Винсенту тревожную новость. Тео нездоровится — ему пришлось обратиться к врачу. Винсент глубоко взволнован письмом брата. Снова болезнь! «Чувство безграничной усталости» охватывает его. Какая нелепая судьба у них обоих! Они отказались от «настоящей жизни» во имя искусства, их молодость «пошла прахом». Они точно рабочие клячи, которые тянут все тот же воз. «Ты уже не бунтуешь, но и не то чтобы смирился, а просто болен, болен неизлечимо, и лекарства для тебя нет. Уж не помню, кто назвал такое состояние „быть обреченным смерти и бессмертию“… „Но ничего не попишешь, — рассуждает Винсент, — надо покориться судьбе и продолжать“. „Ведь мы сами чувствуем, что это сильнее нас и долговечней нашей жизни… Грядущее искусство будет так прекрасно, так молодо, что, если даже мы пожертвуем ради него своей молодостью, мы выиграем душевный покой“. Но именно поэтому они оба с братом не должны пренебрегать своим здоровьем — оно им еще пригодится!
От беспокойства за брата Винсенту еще тяжелее мысль, что он живет на иждивении Тео. « Я корю себя за то, что взваливаю на тебя лишнее бремя своими вечными просьбами о деньгах». Если бы не работа, не природа, которые отвлекают его от черных дум, Винсент наверняка погрузился бы в глубокую меланхолию — он сам это понимает.
До сих пор, как бы стараясь оградить себя от слишком мучительного сознания своего долга, Винсент твердил себе, что создает капитал, который когда-нибудь, в далеком будущем, вознаградит Тео. Разве лучшие из этюдов Винсента — разумеется, речь идет только о самых лучших — нельзя будет продать по пятисот франков? Винсент с тревогой подсчитывал свои работы, надеялся, что не тешит себя иллюзиями, и в минуты сомнений взволнованно восклицал: «О, если бы эти картины возместили то, что на них израсходовано!» Но теперь Винсент вдруг почувствовал, что все эти надежды — дело слишком далекого будущего и что порой он возлагает на Тео слишком тяжелое бремя.
«Имей в виду, — пишет он брату, — что, если в нынешних обстоятельствах ты считал бы целесообразным, чтобы я занялся коммерцией и этим как-то облегчил тебе жизнь, я пойду на это без всяких сожалений». Ах, если бы он мог продавать по одной-две картины в месяц! К сожалению, «очевидно, пройдут годы, прежде чем на картины импрессионистов установятся твердые цены».
Ознакомительная версия.