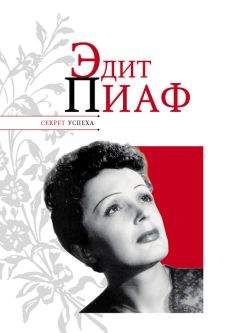«Начать с того, что мужчины могут сколько угодно заставлять вас страдать — для вас это ничего не значит, и они это хорошо понимают. Враги, к которым мы испытываем страсть и любовь, когда нам двадцать, становятся нежными и близкими (прибавлю: оставаясь смутно опасными, как прежде) в наши тридцать. Проходя, они салютуют нашему оружию: о маленькой морщинке в углу рта, которая изводит нас перед зеркалом, мужчины знают, что это шрам другой любви, великой любви, и что это нам помешает выброситься из-за них в окно и слепо выполнять все их капризы (я вам советую тем не менее постучать по дереву). Более счастливого возраста невозможно себе представить».
Саган цитирует Бальзака о женщине тридцати лет и заканчивает так:
«Мы дадим мужчинам восхитительное доказательство нашей слабости — мне уже не двадцать лет, вы знаете — да, я очень любила X, я была так молода… Мужчины станут нежными, уплывут тихо в наше прошлое, будут тактичны, не замечая, что в нашей теперешней жизни мы триумфально беззаботны. Нет слабости, которая при правильном использовании не становится силой»[391].
Отпраздновав пятьдесят, Франсуаза Саган остается верной самой себе, всегда отдавая себе отчет в том, что «мы рождаемся, умираем и живем в одиночестве». В интервью, взятом Пьером Дюмайе, романистка на вопрос о старости ответила:
«Для меня старость — это когда вам больше никто не нравится и вы никому больше не нравитесь. В надежде на совпадение».
Сегодня она просто говорит:
«Мне кажется, у меня никогда не будет времени быть старой».
«Я не могу представить себя похороненной, — прибавляет она. — Я вижу себя исчезнувшей, улетучившейся. Вообще-то говоря, существует семейный склеп в Созаке, меня туда положат вместе с другими, их чуть-чуть потеснят».
Что до будущего, образа, который она оставит после смерти, это ее меньше всего беспокоит:
«Я не уверена, что у нашего существования есть продолжение; из-за атомных механизмов XXI век может вообще никогда не наступить. В этих условиях имеет значение прожитая жизнь. Что касается жизни воображаемой… Я вас отсылаю к цитате Шатобриана, которую я поставила эпиграфом к “Женщине в гриме”: “Какое значение можем мы придавать мирским делам? Дружба? Она исчезает, когда тот, кто любит, становится могущественным. Любовь? Она обманчива, мимолетна или преступна. Слава? Вы делите ее с посредственностью или преступлением. Удача? Можно ли счесть за благо подобную суетность?”»[392]
На самом деле ее занимает только настоящее, которому принадлежит ее творчество, и ее фривольности нужны ей для ее книг, как Марселю Прусту нужно было посещать общество снобов парижских салонов. Ее любовь к праздникам была сначала попыткой себя защитить, поскольку ее взгляд на людей — это выражение одиночества, подвергнутого испытанию светскостью. Франсуаза Саган всегда шла до конца в своих страстях, находя в излишествах лишь элегантную манеру никогда не показывать свою тоску и не впасть в соблазнительно спокойную безнадежность.
Нужно ли ненавидеть Саган? Писатель-дипломат Ромен Гари[393] задал этот вопрос в «Эль»[394], прочтя «Немного солнца в холодной воде». Авантюрист, эксперт по безнадежности, заметил в романистке (это была ее восьмая книга) жестокое намерение продолжать описывать некую социальную реальность. Ее верность «буржуазному реализму» раздражала многих, особенно после событий мая 1968 года.
В отблеске голлистской идеологии это писатель, которого нужно низвергнуть, — отсюда провокация автора «Корней неба», задавшегося вопросом, нужно ли ненавидеть Саган.
«Да, конечно, — отвечает он, — если вы из тех, кто ставит себя вне общества, которое сильнее своей смерти, потому что постоянно возрождается из пепла, вновь похожее на само себя. И нет, если вы любите в романе верность зеркального отражения».
«Здесь есть аморальность. Есть декаданс, по меньшей мере декаданс сохраняется. Я любуюсь ее отказом уступить террору в изящной словесности, тому террору, который требует от романиста, чтобы он заботился о том, чтобы изменить мир, чтобы он дал себе идеологическое алиби, пусть даже для большого переворота. Если романист “буржуа”, считается необходимым, чтобы он имел, как минимум, стыдливость, чтобы восставать, делать вид, что себя ненавидит, быть против того, чем он является. Франсуаза совершенно лишена этого чувства “вины”».
Во время событий мая 1968 года на романистку, золотая легенда которой порождала сарказм, показывали пальцем студенты, занявшие «Одеон». Ей ставили в упрек, что она ездит на «феррари». Ее спасли чувство юмора и находчивость: «Нет, нет, это “мазерати”!» Вокруг нее все засмеялись. «Были моменты очень серьезные, были моменты веселые», — говорит она об этих днях бурных уличных дебатов. Царивший тогда дух анархии и вольнодумства Франсуазе был очень близок.
Бунтовщики Латинского квартала не мешали завсегдатаям модных ночных клубов. Франсуаза, верная «Джимми’с» Режины, видела, как у ее ног упала граната. Дамы были в шоке, у них потек макияж.
«Они стали неузнаваемы, — говорит романистка. — Ко мне на колени упал парень, истекающий кровью. Раненый укрылся в клубе. Режина организовала эвакуацию… Друзья поднялись в ее квартиру, где можно было промыть глаза».
Из этого бурного периода она извлекла мораль пьесы «Пианино в траве», премьера которой состоялась в театре «Ателье» 15 сентября 1970 года. Сорокачетырехлетняя Мод, богатая, красивая (ее роль сыграла Франсуаза Кристоф), решает пригласить на дачу друзей и воссоздать атмосферу каникул, проведенных вместе двадцать лет назад. Переживут ли они вновь счастливые дни?
Луи, сорока пяти лет, милый, но неудачник (роль сыграна Даниэлем Ивернелем), говорит Изабель (Эвелин Бюйль), глупенькой девушке Анри (Доминик Патюрель): «Вы робот, моя дорогая, как и все, вами манипулируют. И, Бог свидетель, ваши маленькие друзья, воздвигающие баррикады, мне часто докучают, но я вам говорю — у них есть все основания выйти из себя. Что вы об этом думаете?» Изабель ошарашена: «О чем?» Луи: «Что вы думаете о молодых людях вашего возраста, которые строят баррикады, которые недовольны жизнью?» Изабелла: «Я нахожу, что это очень мило — все крушить, но при этом нужно себе представлять, что будет вместо этого».
Образ Луи воплощает ускользающее счастье молодежи, имевшей идеалы, которые предательски отравила жизнь. «Жизнь невыносима, моя милая, ты этого не понимаешь, — говорит он Мод. — ЛСД, алкоголь, транквилизаторы, морфин — все это действует одинаково. Все это — чтобы провести время». Он считает, что в тридцать пять лет есть вещи, которые уже не вернуть — «любовная история, амбиции, представление о себе, потом таких вещей становится все больше». Для Мод, которая надеялась встретить Очаровательного Принца двадцати лет, Жан-Лу (Жак Гарден), ее бывшая большая любовь, явится еще более жестоким разочарованием (Жан-Лу стал банальным деловым человеком).