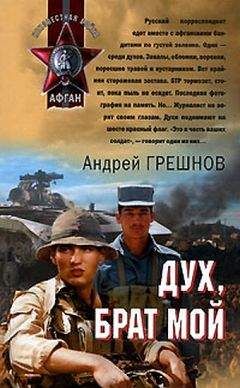Затворив за собой дверь, я долго стоял, опершись спиной о дувал. Провел по нему правой ладонью и не ощутил ни одной выбоины. Пули и осколки чудесным образом миновали это древнее место, да и могли ли они сюда вообще попасть? Я посмотрел на свою правую ладонь, которой гладил дувал. На ней уже давно пробились линии и складочки. За восемь лет на ее когда-то совершенно ровной поверхности я сам рисовал свою судьбу и жизнь с нуля. В 79-м, когда мы проводили учения «пеший по танковому» близ песчаного карьера, располагавшегося напротив начала трассы на Джелалабад, мне доверили изобразить взрыв гранат посредством поджигания и бросков взрывпакетов под гусеницы танков. Первый взрывпакет взорвался у меня в руке, отбив пальцы. И второй взрывпакет взорвался там же. Пальцы не оторвало, но посиневшую ладонь я не чувствовал очень долго. А летом следующего года началась моя война. Однажды, отстреляв короткими очередями два пулеметных рожка я, преисполненный чувства собственного достоинства и гордости за свою меткость, решил поиграть перед лицом моих афганских товарищей в супермена и, ловко подбросив пулемет, закинуть его на плечо. Я схватил его тогда за раскаленный ствол. Почувствовав шипение, разжал ладонь. Кожа осталась на стволе пулемета. Я очень внимательно рассматривал тогда свою ладонь. Она была похожа на иллюстрацию к учебнику анатомии человека. Отдельные жилки и связки шевелились как веревочки. Сначала боли не было. Она пришла позже, когда за нехваткой собственной мочи, почти полностью испарявшейся из-за жары через кожу, просил помочиться мне на руку афганских офицеров. Я долго не мог пользоваться правой рукой, и по сей день думаю, что все, что происходит в нашей жизни, происходит не просто так. Кто-то управляет нашими действиями и стремится отвести нас от ненужных шагов. Мы просто не всегда внимательно прислушиваемся к своему внутреннему голосу и совершаем глупые поступки, кажущиеся единственно разумными на определенном отрезке отпущенного нам в этой жизни времени. После того, как ладонь обросла розовой поросячьей кожей, я больше не стрелял по людям. Я не делал этого чисто интуитивно, вспоминая долгую саднящую боль в руке, а вот здесь, стоя у дувала, вдруг понял, что усвоил этот урок от и до. У человека кроме рук есть еще и голова. Надо просто чаще ее включать…
Когда я в сопровождении Ага Голя выходил из Дэхзака, еще издали, из-за кустов, разглядел понурую фигуру офицера-таджика, стоявшего как изваяние на ровном месте с перекинутой через плечо моей красно-коричневой кожаной сумкой. Как же он обрадовался, увидев меня целым и невредимым! Наверное, он поначалу хотел выдать заготовленную за три часа, пока я отсутствовал, едкую тираду, но радость того, что его карьере теперь ничто не угрожает, затмила злость, и он запрыгал на месте совсем как ребенок, которому отдали отнятую игрушку.
Рядом с ним стояли еще двое офицеров, укоризненно качавших в мою сторону головой. «Да ладно, вам, ребята, революция продолжается!», — обратился я к ним почти весело. Весело мне стало от того, что я опять на свободе, а почти — от увиденного в кишлаках. Я обернулся к бородачу, опоясанному пулеметными лентами. Прощай Ага Голь. Так и запомнил я его, почти сказочно огромного бородатого афганца, опоясанного пулеметными лентами, стоящего в резиновых калошах на взгорке слева от дороги. Что-то стало с тобой, душманище? Через много лет я выполнил вашу просьбу и рассказал о том, что видел, моим людям…
Возвращение в мирную действительность совпало с окончанием «партсобрания» в штабе Амира Саида Ахмада, на которое за время моего отсутствия подъехал мэр города Герат Ахмад Шах и начальник 5-го управления ХАД, имя которого я уже позабыл. Последний, кстати, наблюдал окончание моего вояжа, но деликатно об этом промолчал в ходе последовавшей за этим шикарной трапезы в шатре «на природе». Хотя, его слова ничего бы кардинально и не изменили — Амир уже знал, что один шурави исчез и «общался с народом».
И грянул званый обед! В просторной армейской палатке прямо на земле был расстелен огромный дастархан, вокруг которого были уложены правильным четырехугольником циновки и синего цвета поролоновые подушки. Голодная советская братия толпилась у входа внутри палатки, пожирая глазами расставленные в изобилии яства — свежие сочные овощи, аппетитные горячие лепешки, сухофрукты и источавшую горохово-чесночный аромат шурпу, однако, не решаясь наброситься на все это сразу, ожидая хозяина банкета Амир в сопровождении мэра и хадовца вошел с другой стороны палатки и жестом пригласил всех к столу. «А ты, — вдруг обратился он ко мне, — садись здесь». Командир дружественного бандформирования указал мне на подушку, лежавшую слева от него, третью по счету. Пока я размышлял о том насколько хорошая у Амира память, поудобней устраиваясь на подушке, журналисты и мошаверы накинулись на еду. Внесли два огромных блюда с дымящимся пловом. Куски молодой баранины были спрятаны внутри конусообразных, желтых куч риса для того, чтобы мясо не остывало. Я внимательно следил за манипуляциями Амира, разрывавшего кучу большой шумовкой и раскладывавшего дымящееся мясо по периметру блюда. С нашей стороны «стола» к еде еще не приступили, в то время как на противоположном конце дастархана жадные руки уже разрыли кучу и спешили побыстрее наполнить свои тарелки всякой всячиной.
Амир взял первый кусок, за ним по одному свои тарелки наполнили Ахмад Шах, начальник управления ХАД, авторитетный бородач из числа приближенных к главарю. Очередь дошла и до меня. Я, как и афганцы, не торопясь, рукой взял отведенную мне часть мяса, затем, также, не суетясь, стал накладывать черпаком ароматный рис. «Гилянский», — вдруг вырвалось у меня вслух. «Нет, тарджоман-саиб, не гилянский, а наш, афганский», — вдруг обратился ко мне Амир. Глянув ему в лицо, я понял, что с памятью у него все в порядке. «Ну как, познакомился, наконец, с жизнью простого народа?» — Амир улыбался в свою тарелку. Я не нашел ничего лучшего, чем сказать «Да, саиб, познакомился». «А ты не стесняйся, спрашивай и меня, я ведь тоже в этом районе человек не последний», — Амир бросил в мою сторону острый, пронзительный взгляд, от которого у меня по спине побежали мурашки. «Рис не иранский, — продолжал Амир, — однако ты правильно заметил, что он не похож на афганский. Слишком длинный? Мы привозим его из Ирана и сеем здесь, неподалеку, на рисовых полях, между первым и вторым поясами обороны. Дается он нам нелегко. В районе Джабраил таджики и пуштуны денно и нощно дерутся за эти рисовые поля. В сутки погибает до сорока человек». Амир слепил четырьмя пальцами кучку риса в большой ком и медленно отправил его в рот. «Вот такой он наш афганский рис».