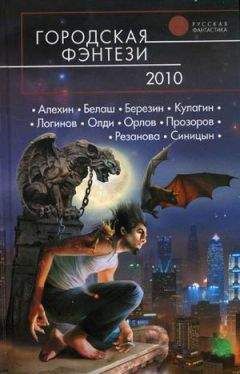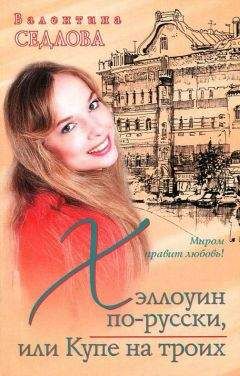Итак, я была готова к походу на Миллионку. Но об этом как-то узнало начальство и подняло шум: писательницу?! Женщину?! Переодетой?! А если ее разоблачат и побьют, а то и убьют — кто ответит?! И, запретив мое переодевание, придали нам спутника — переодетого в штатское начальника отделения милиции… того самого района, где находилась Миллионка и где, конечно, и стар и мал знали его в лицо!..
Перед нами шагах в десяти три парня рыбацкого вида спокойно прошли в ворота той самой походочкой вразвалку. Но стоило нам приблизиться к воротам, как сидевший во дворе древний старец, не меняя позы и почти не двигая губами, издал какой-то гортанный крик вроде «э-эй-о-а!», и этот крик стал повторяться как эхо и во дворах, и на галереях. Какие-то люди заскользили по лесенкам и галерейкам, какие-то двери захлопали — и все стихло. Правда, нам все же удалось увидеть один притон морфинистов (страшное зрелище! — больше десятка полуголых мужчин, густо покрытых черными точками от уколов, с отупелыми лицами и мутными глазами, лежали как трупы на циновках); зазевавшийся хозяин успел припрятать только самый морфий и шприц, он низко кланялся и ломаным языком уверял, что тут его друзья отдыхают после обеда. В другой комнатке, похожей на щель, мы застали двух женщин — одна лежала на кровати и курила опиум, другая, хозяйка, ринулась спасать трубку, но начальник опередил ее и подарил трубку мне (эта диковинная трубка черного дерева, с медными кольцами долго хранилась у меня в Ленинграде как трофей). Курильщица плакала, хватая начальника за руки, и убеждала его, что больна и лечится опиумом… Остальные злачные места как сквозь землю провалились, начальник милиции рассказывал, что почти каждый раз застает перемены — где была квартира из трех комнат, осталась одна комната, а две исчезли и следа дверей не найдешь, где был кабак — ютится многодетная семья, детишки ползают, а куда кабак перебрался — поди найди! Под конец мне в утешение начальник арестовал хозяйчика «исчезнувшего» притона и пошел с ним вдоль галереи, а нам велел не спускать с него глаз, а то проморгаем самое интересное; я смотрела во все глаза, но арестованный вдруг метнулся к стене, ударился об нее и будто растворился в воздухе. Мы с Ваней щупали каменную кладку стены, ударялись боком в том же месте — никакого намека на потайную дверь… В общем, кое-что занятное я все же повидала и узнала, но как раздражали гортанные выкрики по ходу нашего передвижения! И кто знает, сколько интересного я не увидела!..
Во время той же поездки я вылетела из Хабаровска на Сахалин на гидросамолете, который вел тогда еще молодой и популярный лишь на Дальнем Востоке, а впоследствии широко известный полярный летчик Мазурук. И этот милый парень поставил как бы последнюю точку по поводу того, что женщина все же существо низшее. Мы попали в густой туман и совершили вынужденную посадку, как думал летчик, на озеро Большое Кизи, а на самом деле на Малое Кизи, такое мелководное, что гондолы нашего самолета проскрежетали по песчаному дну. Рейс был грузовой, и пришлось потратить часа три на то, чтобы вытащить из самолета в надувную лодку все грузы, а затем отправить их через протоку на Большое Кизи. Я отказалась плыть в лодке, предпочитая рискнуть вместе с летчиком, так как безгранично верила в авиацию и в мастерство авиаторов, но именно мне Мазурук сказал:
— Э-эх, знал же я: если берешь в самолет женщину, надо в противовес обязательно взять кошку!
В 1942 году Ольга Берггольц, Вера Инбер и я выехали в Кронштадт для выступлений перед моряками и летчиками на кораблях и на базах. Нас окрестили «женским литературным десантом» и принимали с исключительной сердечностью. Меня особенно тянуло к подводникам и в отряд «морских охотников», и на то была особая причина. Крупные корабли были заперты в Кронштадте и на Неве, они могли только поддерживать осажденный Ленинград огнем своих могучих батарей. Балтику простреливали с берегов и бомбили с воздуха, ее плотно начинили минными полями и плавучими минами. Каждый поход был смертельно опасен, но наши подводные лодки одна за другой выходили в море, топили немецкие транспорты и боевые корабли иногда ценою собственной гибели… В то время, когда мы выступали в Кронштадте, из двухмесячного автономного плавания должна была вернуться подводная лодка Л-3 под командованием Петра Денисовича Грищенко. В походе участвовал мой муж, морской писатель Александр Зонин. Если… да, так мне и говорили — если Л-3 удастся преодолеть минные поля, она послезавтра выйдет к острову Лавансаари, где ее встретят «морские охотники», чтобы сопровождать до Кронштадта.
— А нельзя ли мне пойти на одном из катеров?
Катерники отвечали, что в принципе можно, если разрешит высокое начальство. Мне удалось получить разрешение от самого командующего флотом адмирала В. Ф. Трибуца, после чего мне дали койку на базе и познакомили с командиром «охотника», с которым мне предстояло на рассвете идти на Лавансаари. Условились, что в пять ноль-ноль за мною зайдет офицер.
С половины пятого я сидела у окна, высматривая, не идет ли офицер. Пять ноль-ноль… Четверть шестого… Половина шестого… Да, случилось самое худшее — Л-3 подорвалась на минном поле, встречать некого…
Пробегая мимо стоянки катеров в штаб, я заметила, что нескольких «охотников» нет. Ушли на Лавансаари? Забыли про меня? Но как могли забыть, когда есть приказ командующего флотом?!
Командир отряда ответил со смущенной улыбкой:
— Понимаю, нехорошо вышло, но вы на нас не сердитесь, Вера Казимировна. Мы, конечно, не такой уж суеверный народ, но все же… Поход опасный, а есть такая примета, что женщина на борту…
Вот так!..
Роман «В осаде» я писала в осажденном Ленинграде, что определило и некоторые достоинства, и недостатки романа. Если бы я начала эту работу после войны, я бы, вероятно, не задавалась целью охватить и город, и фронт, и флот, я бы сумела понять, что во всем, что связано с жизнью и борьбой ленинградских горожан, я сильна знанием, а во фронтовых главах буду слаба, потому что подчинена полученному материалу, скована отсутствием непосредственных впечатлений. Но шла война, блокада продолжалась, и мне казалось, что охватить все стороны нашей обороны необходимо, наши судьбы не отделишь от армии и флота: корабли вон они, на Неве, приросли к стенкам набережных и затейливо закамуфлированы, а фронт на городской окраине, пешком дойти можно… Я и бывала — то пешком, а чаще на попутках — на многих участках фронта, беседовала со множеством фронтовиков, десятки офицеров и солдат охотно помогали мне «изучить материал». Только годы спустя, когда начали выходить книги Бондарева, Бакланова, Василя Быкова и других писателей, пришедших из самого пекла боев, я ощутила полностью, что значит подлинное знание, власть пережитого и хотя бы недолгая отстраненность от военных событий, позволяющая охватить целое и отобрать главное — главное, чем живет человек на войне. А в те давние дни я добросовестно старалась все охватить, то есть как можно больше видеть, как можно тщательней изучать.