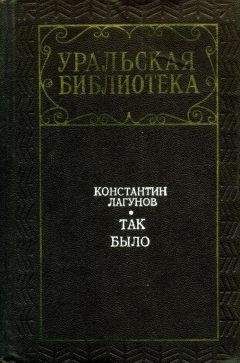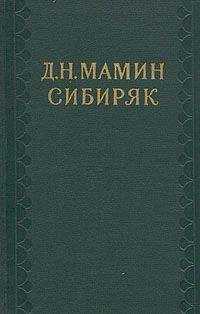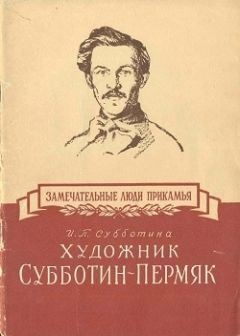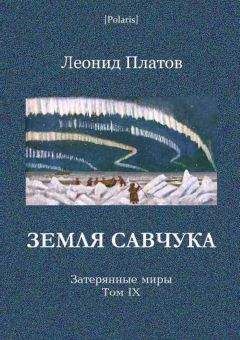— Солдаты. Эти же бабы и народили и выпестовали солдат! Были им матерями и сестрами, невестами и женами. Проводили их на войну. Дали оружие и хлеб. И прежде всего им — русским женщинам обязаны мы своими победами!
Он умолк, задумался. Только лицо его было теперь спокойным. И брови разошлись, и морщины разгладились. Лошадь притомилась. Бежала тише. Круп Воронка блестел от пота.
— А знаете, мне иногда думается, после войны люди станут жить по-другому. Они будут добрее и мягче. Война опалила людские сердца, и они стали чище, чутче, тоньше. Человек понял цену дружбы, ласки, сочувствия. Научился быть нетерпимым к подлости.
— А я не уверен в этом, — задумчиво заговорил Василий Иванович. — Война не одинаково влияет на всех. Иных она ожесточит, других развратит. Нет, после войны нам предстоит жестокая борьба за душу человека.
— С кем?
— Ну, хотя бы с желанием найти покой и тишину в семейном гнездышке, отгородив его от всего мира. С индивидуализмом и прочими червоточинами. Так что не шейте ножен для своего меча, а точите его, да с обеих сторон.
— Я хочу после войны ребятишек учить или библиотекой заведовать.
— Во! Я хочу тишины, другой хочет тишины, третий — тоже.
— Это я так, к слову. А пока силы есть, из воза не выпрягусь.
— Но! — Василий Иванович хлестнул вожжами Воронка. Тот обиженно всхрапнул и понесся вскачь.
— Что вы его все время погоняете? И так взмок. Он ведь не человек. Ему передышка нужна.
Рыбаков засмеялся непринужденно и весело. От недавней задумчивой серьезности не осталось и следа.
Чем ближе подъезжали они к месту, тем тише бежал Воронко. Дорога не просохла, и колеса ходка глубоко увязали в грязи. Из-под копыт лошади летели мокрые комья земли. Вот показалась околица деревни. Когда-то здесь были ворота. Теперь от них остался один столб. Изгороди тоже не было. Жерди растащили на дрова. Федотовой вдруг стало жаль этот черный покосившийся столб, словно он был живым и мог чувствовать свое одиночество. Захотелось погладить его по щелястому, шершавому боку и сказать ему что-нибудь утешительное, вроде: «Крепись, старик, недолго осталось!» Одиночество ужасно. От него ничем не заслонишься: ни работой, ни книгами. Хорошо, когда рядом есть плечо. Положить бы на него голову, закрыть глаза и…
В глубоких колеях грязной дороги тускло блестят мокрые желтые листья. Они уже отжили свое. Им теперь все равно. А ей — нет. Странно все-таки устроена жизнь. В маленьком человеческом сердце уживается столько чувств, порой совсем противоречивых. И жажда деятельности, и желание покоя, сила и беспомощность, беспощадность и нежность.. «Что-то меня сегодня все время тянет философствовать. Старею или устала?..» — подумала Полина Михайловна.
Будто кем-то вспугнутые, дома далеко отбежали от дороги и неровными серыми шеренгами выстроились по обе стороны ее. По-весеннему молодо зеленела влажная придорожная трава. В огромных, холодно блестящих лужах плыли отраженные облака. Вдоль дороги шли цепочкой важные сердитые гуси. По поляне, смешно взбрыкивая, ногами, носился белый теленок. За ним с тонким лаем мчалась кудлатая собачонка. На телефонном столбе назойливо каркала встопорщенная ворона. Где-то лаяла собака. «Ленька! Ленька!» — надрываясь, кричала невидимая девчонка.
Федотова очнулась от громкого рыбаковского «тпру». В двух шагах виднелось чисто выскобленное высокое крыльцо правления колхоза «Коммунизм». Над крыльцом — островерхая крыша. Она держалась на двух тонких деревянных колоннах, украшенных затейливой резьбой. Сколько раз Полина Михайловна бывала здесь, а резьбы этой не видела. Вообще сегодня все виделось необыкновенно хорошо, и все увиденное прилипало к памяти, как горячий воск к доске. Многое казалось странным, вроде бы нереальным. Так бывает, когда человек слегка захмелел. Может, и она захмелела от ядреного осеннего воздуха.
Видимо, она слишком долго просидела в ходке истуканом, потому что Рыбаков окликнул ее:
— Приехали, Полина Михайловна!
Она смущенно поглядела на него. Он возился с зажигалкой. На сосредоточенном лице — ни тени улыбки.
Федотова вылезла из ходка, неловко переступила занемевшими ногами.
— А вы разве не зайдете в правление? И лошадь бы передохнула.
— Нет. Мне надо в Жданово дотемна добраться. Пока. — И протянул ей руку.
5.
Гулко, как выстрел, хлопнула дверь. На крыльце показалась Настасья Федоровна Ускова. Она была в легком платьишке, без платка.
— Ишь, как начальство сторонится нас! — послышался ее грудной сильный голос.
Рыбаков повернулся к ней. «Простынет ведь», — встревожился он и выпрыгнул из ходка. Прикрутил вожжи к столбу, легко взбежал по ступенькам.
— Здравствуй. Пошли в правление, — и первым вошел в дом.
В кабинете Усковой никого. Полина Михайловна кинула на подоконник полевую сумку.
— Там у вас рукомойник в сенях. Пойду соскребу грязь и умоюсь.
Когда она скрылась в сенях, Рыбаков строго спросил Ускову:
— Чего это ты в одном платьишке летаешь? Простудиться хочешь?
— Аль жалко меня?
— Значит, жалко.
Она закрыла ладонью глаза, склонила голову.
Рыбаков кашлянул, спросил с хрипотцой в голосе:
— Ты что, Настя?
Она отняла ладонь от лица. Грустно улыбнулась.
— Теперь так и будешь — все мимо да мимо?
— На обратном пути заскочу.
— Когда?
— Дней через пять.
— В среду, значит. Надолго?
— Видно будет.
— Пять дён, — устало проговорила она и снова закрыла глаза ладонью.
Вернулась Федотова, на ходу расчесывая волосы. Рыбаков покосился на нее, улыбнулся уголками губ.
— Ну вот, привела себя в боевую готовность. Теперь можно не сомневаться в успехе.
— А что? — Федотова гордо откинула голову. — Не подведем, Настасья Федоровна?
— Не подведем, — сдержанно ответила Ускова. — Нам и осталось-то пустяки. Только начать да кончить.
— Много еще не убрано? — поинтересовался Рыбаков.
— Гектаров триста. Да и скошенный-то в суслонах мокнет.
— Надо молотить. По два раза пропускайте через барабан. Поднимите весь народ, всю технику — и ни минуты передышки, пока на поле есть хотя бы один сноп. Метеосводка хорошая. Ожидается резкое потепление.
— Хорошо, Василий Иванович. — Ускова качнула головой. — Не сомневайтесь.
— Мне пора. Бывайте здоровы. Воюйте.
Подал руку Полине Михайловне. Повернулся к Усковой.
— Водицей напой, председательша.
Она принесла алюминиевую кружку с водой. Медленно сквозь зубы тянул он студеную воду, а сам смотрел на нее. Их взгляды встретились. «Неужели нельзя?» — спросил ее взгляд. — «Нет». — «Как тяжело». — «Мне тоже». Отдал ей кружку, вытер ладонью губы.