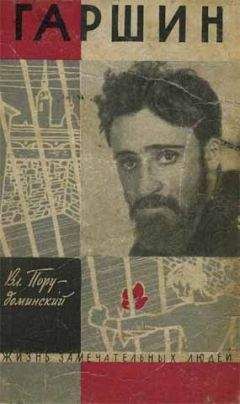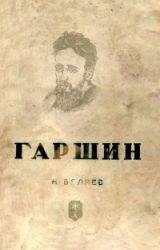В «Происшествии» Надежде Николаевне некуда было идти.
У каждого свой пост. Не ей колебать устои. Возвращаться же в «чистое общество» бессмысленно. Оно грязнее панельной грязи, в которой жила Надежда Николаевна.
В повести все оказалось значительно проще. Не было безысходности. Для Надежды Николаевны нашелся путь. Спасением стала любовь. Она помогла разглядеть мир добрых людей, сделать шаг к ним. Поиски ответа на жгучий вопрос о судьбе Надежды Николаевны велись не в «среде», а в душе самой героини.
Это было не по-гаршински. Этого не могло быть. Надсон писал огорченно и решительно: «Повесть выдумана».
Лопатин не похож на обычного гаршинского героя. В нем нет протеста. Нет «страшных отрывистых воплей» против того, что творится вокруг. Он такой, каким хотел себя видеть Гаршин, когда писал повесть: добрый, хороший человек живет сам по себе в «большом внешнем мире». Это решило дело.
В повести идет борьба не за обновление мира, а за обновление души Надежды Николаевны.
Лопатин стоит на шаг позади Рябинина или героя из «Красного цветка». Любовь к людям толкала их на обличение зла, на подвиг. Оружие Лопатина — сама любовь. Это сильное оружие. Оно пробудило Надежду Николаевну, заставило ее увидеть хорошее и поверить в него. Оно было как протянутая рука: ухватившись за него, Надежда Николаевна выбралась из мрачного болота на уютный островок — в «просторную и светлую» комнату Лопатина.
Любовь-оружие проверялась в борьбе. Лицом к лицу с Лопатиным встал в повести некий публицист Бессонов. Он тоже любил Надежду Николаевну. Не для нее — для себя. Ему было выгодно, чтобы она осталась на своем посту. Бессонов боролся за это. Он с неприязненным удивлением отмечал на лице Надежды Николаевны «отпечаток достоинства, совершенно не идущий к ее общественному положению». Любовь эгоистическая обернулась ненавистью. Оружие Бессонова — ложь, презрение к слабому, наконец, грубое насилие. Цель оправдывает средства. Это оружие того мира, который топтал Надежду Николаевну. Любовь Бессонова, применявшая это оружие, любовь тоже того мира. Бессонов перестает быть частным лицом — в итоге «личная история» и «любовные дела» приобретают определенные общественные черты. Примером любви истинной и деятельной Лопатин отрицает бессоновскую любовь и тем самым утверждает иные отношения между людьми.
Борьба Лопатина с Бессоновым закончилась трагически — победителей не было: убита Надежда Николаевна, убит Бессонов, смертельно ранен Лопатин. «Кровавая развязка» — средство избегнуть фальши. Бессонов не мог победить: той Надежды Николаевны, за которую он воевал, уже не существовало; жила новая Надежда Николаевна. Победа Лопатина означала счастливый конец, небольшую победу, почти без борьбы. Гаршин предпочел большую борьбу без победы.
В начале повести Бессонов спрашивал Лопатина, может ли он, «мягчайший русский интеллигент», когда нужно, «бросить кисть и… взять кинжал». Концом повести Гаршин ответил на вопрос: да, может! И в этом сила деятельной любви. В бою за жизнь Надежды Николаевны Лопатин убил Бессонова. Это было справедливо — добро одержало верх над злом. Но нет покоя душе Лопатина. «…Какой-то голос, не переставая, нашептывает мне на ухо о том, что я убил человека.
…Для человеческой совести нет писаных законов, нет учения о невменяемости, и я несу за свое преступление казнь».
Гаршин завершил «личную историю» «кровавой развязкой» по справедливости. И тут же спросил: а справедливо ли это? Имеет ли право добро убивать зло?
«НЕТ, ГОСПОДИ, НЕ МОГУ Я ПОСЛУШАТЬСЯ ТЕБЯ!..»
Посреди кровавой бойни — самой крупной причины людских бед — ищет для нее оправдания, а для себя кротости рядовой Иванов.
Под лучами любви в неизменившемся «внешнем мире» самоусовершенствуется Надежда Николаевна.
Лопатин, покарав зло, терзается: имел ли он на это право?
Тень толстовских мыслей легла на гаршинские страницы.
«Кто герой? Превращающий в друга врага своего». Так учили священные книги.
«Слабый побеждает сильного. Нежный побеждает жестокого». Так говорили древние мудрецы.
По яснополянскому парку бродил, размышляя о жизни, неспокойный мудрый человек, который хотел открыть пути спасения человечества. Ему казалось, он нашел эти пути. И он беспощадно критиковал и разоблачал несправедливость и противоречия общественного устройства во имя нравственного самоусовершенствования и непротивления злу насилием — положения, которое, по мнению его, связывало все учение в одно целое. Он писал статьи и трактаты, поучал человечество: «Спасение ваше… никак не в греховном, насильническом устройстве жизни, а в устройстве своей души».
Нельзя было жить в одно время с Толстым и не замечать Толстого, никак не относиться к нему. И дело тут не в его личных качествах — мудрости, человеколюбии, стремлении к правде и добру. Толстой — неотъемлемая часть своей эпохи. «Великое народное море, взволновавшееся до самых глубин, со всеми своими слабостями и всеми сильными своими сторонами отразилось в учении Толстого»[14].
Что искал у Толстого Гаршин? Конечно, не пассивизм и не теорию непротивления злу.
Осенью 1884 года, работая над «Надеждой Николаевной», Гаршин ненадолго съездил в Киев.
В славном стольном Киев-граде думалось о древней Руси. Где-то здесь, вокруг, стояли заставы богатырские. Отсюда сам Илья Муромец шел служить за землю российскую, за вдов, за сирот, за бедных людей.
В повести о Надежде Николаевне появился эпизод. Художник Гельфрейх мечтает о картине: Илья Муромец читает евангелие. Задумался богатырь: «Если ударят в правую щеку, подставить левую? Как же это так, господи? Хорошо, если ударят меня, а если женщину обидят или ребенка тронут, или наедет поганый да начнет грабить и убивать твоих, господи, слуг? Не трогать? Оставить, чтобы грабил и убивал? Нет, господи, не могу я послушаться тебя! Сяду я на коня, возьму копье в руки и поеду биться во имя твое, ибо не понимаю я твоей мудрости, а дал ты мне в душу голос, и я слушаю его, а не тебя!..»
Слушая голос души своей, Гаршин зимой 1885 года ездил из Петербурга в Москву — повидаться с Толстым. Он прочитал трактат Толстого «В чем моя вера?» и ездил спорить. Он не застал Толстого в Москве и огорчался: «Я чувствую настоятельную потребность говорить с ним. Мне кажется, что у меня есть сказать ему кое-что. Его последняя вещь ужасна…»
Слушая голос души своей, Гаршин восторженно и с величайшим энтузиазмом читал еще в рукописи драму Толстого «Власть тьмы», выучил ее почти наизусть, превозносил ее, называл шекспировской. Но решительно отверг обвинения в толстовстве: «Защищать драму Толстого и признавать его благоглупости и особенно «непротивление» две вещи совершенно разные… Очень любя Черткова, я в теоретических рассуждениях ни в чем с ним и с Т. не схожусь. Многое в их речах мне прямо ненавистно (отношение к науке, например): если ты этого не знал, можешь спросить у Черткова при случае: он скажет тебе, что меня «ихним» считать невозможно».