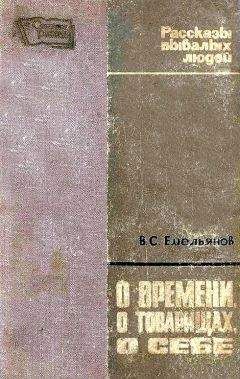— Чем же они хороши? — спросил я его.
— Такой автоматизации и насыщенности приборами управления, как на ваших последних доменных печах, нигде нет.
Этот разговор состоялся в начале 1960 года.
И действительно, используя самые последние достижения науки, мы создали приборы, позволяющие заглянуть туда, куда не мог и никогда не сможет проникнуть глаз человека — внутрь работающей доменной печи. Новые приборы, основанные на использовании радиоактивных излучений, дают возможность наблюдать, как движется в печи руда, кокс, газы, и автоматически управлять процессом производства чугуна.
Теперь мы помогаем строить доменные печи другим странам, в том числе Индии, Цейлону.
А двадцать пять лет назад на многих доменных печах Советского Союза основным средством механизации была лошадка, подвозящая к печам уголь и руду, а единственным контрольным «прибором» — глаз мастера.
Я вспоминаю, с каким восхищением мы смотрели в те годы за работой скипового подъемника, загружающего железную руду и кокс на доменной печи крупповского завода в Борбеке.
А в 1959 году, когда я был в США, один нагловатый молодой журналист в поисках сенсации спросил меня:
— Скажите, что вас больше всего поразило в США?
Я ответил ему:
— Меня больше всего поразило то, что вы думаете, что нас можно чем-то поразить.
Нет. Времена, когда мы поражались, приезжая за границу, давно прошли. Если у нас теперь и возникают какие-то чувства, когда мы видим в других странах вещи лучше наших, то это не чувство удивления, а скорее раздражения на самих себя. Ведь вот могли бы сделать и это не только не хуже, а даже лучше, знаем, как это можно сделать, а пока не делаем. Вот первая мысль, которая возникает, и желание скорее перенять опыт, да не просто перенять, а сделать еще лучше.
Подъем на нынешние высоты был нелегким. Мы спотыкались и падали, набивали синяки и шишки. Нас сопровождали не только успехи, но и неудачи.
Как-то мне рассказали об аварии, имевшей место на заводе «Электросталь». Шел ремонт электропечи, руководил им молодой инженер, недавно закончивший Горную академию. Он знал, что по правилам техники безопасности необходимо заземлить корпус печи, чтобы избежать опасности удара током. На медные шины токоподводящей системы он положил железный ломик и соединил его проводом с землей.
Закончили ремонт, и печь можно было включать. Но инженер забыл убрать положенный им на шины железный лом. Включили печь, и произошло мощное короткое замыкание, которое повело к тому, что стали отключаться многие фабрики и заводы этого района.
Инженер был так напуган, что решил скрыть причины катастрофы и зарыл ломик со следами медных полос во дворе завода. Инженер все же был арестован, но, боясь ответственности, долго не хотел объяснить действительные причины аварии. Затем он рассказал все, как было на самом деле, и его освободили.
Неудачи, которые тогда случались, нам порой даже трудно было объяснить. Тем труднее было понять их неспециалистам. Значительно проще и логичнее предположить, что все, что не клеится, — результат действия враждебных сил.
К сожалению, силы эти на самом деле существовали и действовали. Мне приходилось лично сталкиваться с лицами, не только неприязненно относившимися к советским порядкам и мероприятиям партии и правительства, но и старавшимися активно помешать нашему стремительному развитию.
В Горной академии, например, среди профессоров, преподавателей и студентов, безусловно преданных Советской власти, были и бывшие врангелевские офицеры и офицеры царской армии, лица дворянского происхождения, носители знатных титулов.
Некоторые из профессоров были связаны родственными узами с золотопромышленниками. Часть из них в недавнем прошлом принадлежала к политическим партиям, которые вели ожесточенную борьбу с большевиками. Они привыкли к другим порядкам. Думалось, что пройдет некоторое время и они приспособятся к новым условиям, сложившимся после революции. Так мы считали и, исходя из этого, строили свои отношения с ними.
Тогда у меня не возникало мысли, что кто-то, где-то плетет сети против нас, строит козни, вынашивая коварные планы разрушения всего того, что мы создаем. Но действительность была гораздо сложнее, чем это представлялось нам, молодежи.
В 1929 году, когда я был еще студентом, профессор Чижевский предложил мне место лаборанта в своей лаборатории в Московском отделении института металлов. Директором отделения в то время был Чарновский.
— Пройдите к Чарновскому и передайте ему эту записку.
В записке излагалась просьба о моем зачислении лаборантом.
В то время студенты одевались в такую одежду, какую могли достать. Мне посчастливилось. Портной, живший во дворе Горной академии, сшил мне из потертой и бывшей уже в употреблении диагонали студенческую куртку и брюки. Кроме того, у него был закрой на студенческую фуражку.
Таким образом, я оказался обладателем студенческой форменной одежды, что имело немаловажное значение при моем разговоре с Чарновским.
Посмотрев на меня оценивающим взглядом, он спросил:
— Где вы эти три дня пропадали?
(Я появился у него на третий день после получения записки от Чижевского.)
— Нам надо спешить укомплектовать отделение своими людьми. Иначе какой-нибудь райком направит к нам «товарищей».
Видимо, мой студенческий сюртук и записка профессора были для Чарновского свидетельством того, что я не могу быть членом партии.
Вспоминая тридцатые годы, я вижу перед собой целую галерею лиц, и среди них большой редкостью были лица со скорбным выражением, напоминающие древних святых, как их изображали суздальские богомазы, хотя такие и встречались. Их так и называли — «святые». Но они не были характерными для того времени. Выли еще «начетчики», «законники», как их окрестили. Они когда-то что-то выучили и застыли на этом, были мало подвижны, без «искры божьей». Как уродливая родинка на веселом, жизнерадостном лице, эти люди были не нужны. Огромное же большинство было через край наполнено радостью творческого труда, безграничной верой в правильность избранного пути. Это были живые люди, а не манекены, со всеми их человеческими слабостями, чувствами, страстями, страданиями и радостями.
То было время стремительного движения страны вперед, и на фоне этого движения многие личные чувства горя или радости не замечались — они поглощались общим горем, если оно случалось, общей радостью, если она приходила. Слово «мое», мне кажется, было в те годы мало популярным — его стыдились произносить. «Наше» повторялось наиболее часто. Слово «мое» было связано с прошлым, а от него хотели избавиться навсегда.