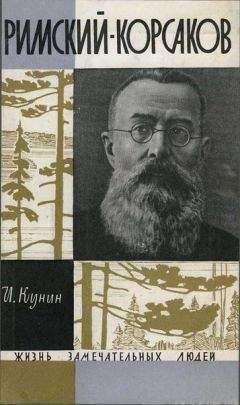— Это что за тушенка? — спросил Павлик.
— Американцы закон такой во время войны приняли, лендлиз называется. Это чтобы нам в долг продукты, шмотье, оружие посылать, — важно пояснил Степа. — Так вот, идем и идем, а японцев не заметно. Ихняя Квантуанская армия не хочет свидания с нами, только пятки сверкают, да еще, суки, сожженные деревни после себя оставляют. Вот так идем и идем. Ни мира, ни войны. Тоска. Так дошли до города Мукдена. Большой город, где улицы погрязнее, дома поплоше — для китайцев, где почище и получше — для японцев и европейцев. Поместили наш батальон в шикарном отеле. До «Лондонской» ему далеко, до нашей одесской, но хаза ничего, смотрится. Все спать завалились, моя рота тоже. А мне душу отвести надо, да не с кем. Поговорили с хозяином, выпили мы с ним ихней дрянной рисовой водки, саке называется. Да что с него толку — только знает дрожит, как бы у него гостиницу не отобрали. Поблагодарил я его за утешение, плюнул, вышел на улицу, не знаю к кому прибиться, а день теплый, солнечный.
Тут толпа идет, вроде нашей демонстрации, только несут не знамена, не портреты с усатым, а желтые флажки, чудища всякие, разноцветные бумажные фонарики, хотя и день был. Праздник что ли у них какой, как раз ко времени. Я обрадовался. Все-таки народ гуляет. Затесался к ним. И они обрадовались. Нахлобучили мне на голову какой-то не то колпак, не то корону, посадили на носилки. Несут. Они свои песни поют. А я ворот гимнастерки расстегнул и нашу одесскую, знаешь: "Как на Дерибасовской, угол Ришельевской, в восемь часов вечера разнеслася весть"? — Не знаю, — с интересом отозвался Павлик, — а о чем там?
— Э, да что с тебя взять, белый медведь, — махнул рукой Степа и продолжал: — Несли они меня, несли, а потом мне надоело. Спрыгнул, отстал от них, огляделся. Боже ж ты мой, вот история! Куда попал — сам не знаю. По-китайски и по-японски — ни слова. Знаю только название гостиницы, и то потому, что английское, ну той гостиницы, где мой батальон стоит. Пошел куда глаза глядят. На углу рикши стоят. Колясочки у них легкие, лакированные, спицы разноцветные. Подошел к одному, сказал название отеля. Он улыбается, кивает головой, показывает: садись, мол! — стаер зачуханный.
Еду, еду, потом кричу: "Стой!". Он не понимает, бежит. Еле-еле втолковал ему, а то все бежал. Наконец, остановился. Я слез и говорю ему: "Эй ты, рысак! Разве так возят? Садись, я тебе покажу, как надо возить с ветерком!" Не понимает. Я думаю: так до вечера без толку кричать. Взял его за шиворот, тащу на сидение, а он упирается. Но когда я за кобуру взялся — он-таки сел. Сидит на подушке, дрожит, сам не свой, чего-то бормочет. Я впрягся, и — бегом. Бегу, бегу, куда — сам не знаю, только ордена и медали на груди позвякивают. Вдруг выскочил на широкую улицы, а там полно народа. Рикши, извозчики, автомобили, — словом, весь транспорт, увидев нас, остановился. Шум, крики, как у нас на привозе. Это мне потом объяснили, что к чему. Рикша у них считается чуть ли не самое последнее занятие. А тут офицер, победитель, европеец, при всех регалиях, какого-то нищего китайца в коляске везет. Короче говоря, сцапал меня комендантский патруль. Вкатил мне комендант пять суток губы и строевую подготовку: пошагать значит во дворе комендатуры. Вот зачем, выходит, меня десять тысяч верст везли! А отсидел — того хуже. На улице китайцы подходят, пальцами дотрагиваются, а кто к гимнастерке лоб прижимает. В какую лавку ни зайдешь, хозяин все перед тобой выкладывает и денег не берет. Это они меня к каким-то своим святым причислили. Поначалу мне даже нравилось, а потом сил моих не стало. Ладно — в солдаты, а в святые я не нанимался. Еле допросился перевода в другую часть, подальше от Мукдена. А вернулся домой после войны — море потянуло. — Степа широко улыбнулся: — Ну, вот, чирик! Выписываюсь я: мы еще с тобой в Одессе бычков с моря потаскаем.
Он осторожно обнял Павлика, халат при этом соскользнул и виден стал синий китель с золотыми шевронами и орденскими планками.
Павлик засопел в ответ, одобрительно пробурчал:
— Ты мужичок, Степа!
Боцман, пожав каждому из нас руку, сказал:
— Жду вас в городе-герое Одессе, хуторяне. Адрес «Россия», бывший "Адольф Гитлер", а на берегу — Молдаванка, Прохоровская, восемьдесят три, там каждый знает, — и удалился, большой, добродушный, приветливый. После его рассказа и прощания успокоившийся Павлик уснул. Впрочем, ненадолго.
Он проснулся со стоном. Лев Исаакович, которого я тут же позвал, пробыл у Павлика около трех часов и ушел мрачный. На мой вопрос ответил только одним словом: "Посмотрим".
Вечерело. Павлику стало немного лучше, но глаза его лихорадочно блестели. Он позвал меня и сказал глухо:
— Кончаюсь я, Борисыч, да и слава Богу! Сил больше нет терпеть. Не лезь со своими словами — они мне не нужны. Лучше послушай. Ты ведь историк. Может, когда и пригодится тебе моя история.
Он стал говорить тихо и горячо, все более возбуждаясь. Время от времени ненадолго впадал в забытье, потом снова начинал говорить, и каждый раз точно с того места, на котором оборвался:
— Слесарил я на заводе в Ногинске, а в сорок шестом загремел в солдаты. Попал в пехотный полк, тут же неподалеку, в Московской области. Служба как служба. Знаешь, солдат в пехоте: первые полгода называется «дух», "салабан" или «салага» — его любой старослужащий по морде садануть может и послать куда хочет, даже вместо себя в наряд; вторые полгода — «помазок» или «шнурок». Это уже полегче — не так тобой помыкают. Другой год службы: сначала будешь «черпак» — тебя не задирают, ты уже сам на «салабанов» покрикиваешь. Последние полгода — «старик». Его и сержанты не трогают, а то в сортире утопит. Когда увольнения в запас ждешь — называется «квартирант». После увольнения, пока из части не ушел, — «ветеран» или «демби». От них и лейтенанты шарахаются. Вот дослужился я до «черпака», легче стало. И тут, понимаешь, такая канитель вышла. В воскресенье как-то с утра получил увольнительную. Мы с корешем в буфете кирнули, погуляли. Вернулся я к обеду, а тут, туда их мать, суп гнилой, даром что с мясом. Дух от него такой, что нутро выворачивает. Солдаты, кто молчком, кто матерясь, миски отшвыривают. Пришел дежурный старший лейтенант: "В чем дело, — говорит, — отчего шум?" Был бы трезвый — смолчал бы, наверное, а тут понесло: "Мы что, — говорю, — матросы с «Потемкина», чтобы нас червивым мясом кормить?" Он взвился: "Ах ты, контра!" — и к особисту. Взяли меня в тюрягу Московского гарнизона. Долго не думали: десятку как в яблочко влепили. Попал я в лагпункт… Да ты держи меня за руку, держи…
Я послушно взял горячую худую руку Павлика в свои руки, а он, облизывая пересохшие губы, продолжал: