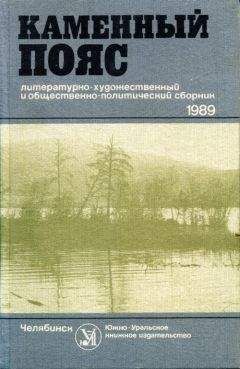Что ты хотел доказать, Юра?! Кому? Думал, наверное, что накажет своей смертью отца и жену на всю жизнь… Или уж ничего этого не думал, а просто не мог жить, и все?..
Выходит, при всей испорченности, ранней затасканности, была душа твоя чиста! Не могла она принять измены жены, сладострастного кощунства отца… Не могла жить в безверии. Иначе не полез бы в петлю, махнул бы на все рукой, а то бы еще и на машине разъезжал, купленной батей… Другое дело — силы не было. Не было силы противостоять. Откуда ей взяться, силе-то? От отца-батюшки? У него, как рассказал Игорь, еще два сына есть — оба по тюрьмам. Вернутся, продолжал Игорь, отца могут запросто за Юрку «кончить». Они оба, особенно самый старший, в младшем брате души не чаяли, в письмах отцу наказывали: береги Юрку, у нас жизнь косо пошла, пусть хоть он живет как человек… Отец по-своему сильный — и Татьяну он взял по известному праву сильного, перешагнув через родного сына.
Не могла придать силушки богатырской, разбудить, раззадорить ее своей любовью и жена, краса ненаглядная, которая, как сказка сказывает, должна, когда надо, уметь и лягушкой-квакушкой быть, а когда надо — обернуться Василисой Прекрасной, Василисой Премудрой, ковер соткать за ночь, пирог испечь, в хороводе на диво всем пройтись, а потребуется — оказаться за тридевять земель, чтобы непутевый ее Иванушка-дурачок отправился преодолевать пути-расстояния, совершая дела добрые, подвиги молодецкие, набираясь ума-разума…
Можно предположить, что Татьяна предпочла молодому мужу шестидесятипятилетнего старика не только из-за денег, но и как сильного. Как мужчину, способного предоставить твердую обеспеченность, возможность жить широко и красиво (причем в этом возрасте есть мужчины на вид моложавые, а у этого лицо — как панцирная сетка. Такие у восьмидесятилетних бывают. Правда, телом он крепок). Но скорее ей хотелось всего: и батю, и Юру, и Бориса, оказавшегося случайно рядом, и денег, и любых прочих прелестей жизни…
И столичная служительница культуры со связями не помогла душе твоей — как все в той же сказке Баба Яга, — не дала клубок с нитками, который, разматываясь, указывает путь…
Милый ты был юноша, Юра, и потребляли тебя, жрали гораздые до лакомств люди! Вот и Боря тоже не минул их числа, почуял, что дозволено, и раздул ноздри, и пасть раскрыл хуже зверя лютого… Все ты, Юра, видел, все испробовал и познал, успел притомиться в свои двадцать два года, все — кроме нормальной человеческой жизни с заботой и ответственностью. Откуда же ей, силе?..
Татьяна, рассказывал Игорь, делилась с собравшимися на Юрины поминки: «Мы так с батей нанервничались за эти дни, так нанервничались — хотим поехать на юг, в Ялту, отдохнуть, расслабиться…»
Однако и сам Игорь странным образом помянул лучшего друга, вместе с которым в одну группу детского садика еще ходили. Я, говорит, напился с горя, и двух баб… — за Юрку и за себя!
Да, Юра: вывих, вывих в мозгах. Привычный вывих.
— За рубль — машину, не жалейте рубля, — продолжал шаманить в подземном переходе возле центральной площади седовласый старец с прокопченным южным загаром лицом Скупого рыцаря. — За рубль — счастье…
Журавли пролетят над тобой,
улетят — и посеют тревогу
в этой жизни спокойной такой.
Ткнутся сумерки ветру в берлогу —
и поднимется вихрь за рекой,
где темнеют поля и леса…
Что вам нужно от нас, небеса?
Что вам, птицы бездомные, нужно?
Ведь не завтра же теменью вьюжной
нас надежно закроет зима.
Сердце, что ты все сходишь с ума?
Без ответа умолкнет вопрос.
Отзовется дорожный откос
пыльной вьюгой на грохот колесный.
Разорвав пустыря немоту,
поезд скроется. Дым папиросный
у зеваки застрянет во рту.
Взгляд поднимется вверх от земли —
и опять повторится виденье:
красной нитью в закатной дали
промелькнут и сгорят в отдаленье
нас окликнувшие журавли.
Вставай! Уже уснули соловьи,
уже трепещут удочки твои
в предчувствии сверкающей добычи,
уже роса, разбрызгивая свет,
услышала, как день идет, по-бычьи
в сырой траве прокладывая след.
Проснись! Уже пропели петухи.
Уже берез недвижные верхи
объяты солнцем. Гуси на воде
гогочут, разметая пут тумана.
И робкий линь застыл вблизи кукана,
как перепел в неверной борозде.
Очнись! Уже земля раскалена.
Поторопись! К закату склонена
вершина неба…
Что же ты, ей-богу!..
Тень новой ночи, как последний путь,
перед тобой упала на дорогу,
тоской и счастьем разрывая грудь.
Во дворе нежилого квартала,
Где я жил, спотыкаясь о век,
Мне цыганка по звездам гадала,
Побросав рукавицы на снег.
Не взяла и убогости медной,
Что я силился в руку вложить.
Видно, был затрапезный и бледный
И не много маячило жить.
Провожал я ее по Иркутску
До вокзала над сном Ангары.
Хлеб жевали с гудками вприкуску
У какой-то собачьей норы.
А потом, когда тронулся поезд,
И махала она мне платком,
Я не знал, что ударюсь я в поиск,
Это было потом все, потом.
Нагадала она мне везенье
И пропала в проеме окна.
А везенье-то: месяц весенний,
Да река, да луна, да она!..
Стороной пролетели метели
с тесным взвизгом щенячьей возни.
На исходе рабочей недели
спит окраина после восьми.
Спит окраина, вывесив флаги
кумачовые,
словно пароль.
Как вино в бурдюке или фляге,
спит окраина зимней порой.
Дремлет-стонет, о сны спотыкаясь
(а хорошие сны коротки) —
ведь на улице этой остались
лишь старухи
да лишь старики.
Ох, темна же ты, ночь вековая!
Ноги ноют, и душу знобит.
Тень проносится сверхзвуковая
прошлых радостей, пришлых обид.
Только вскрикнет петух еле-еле,