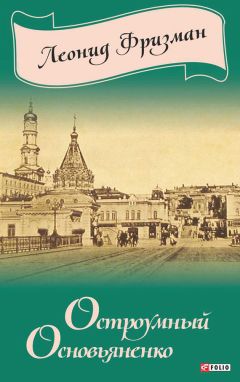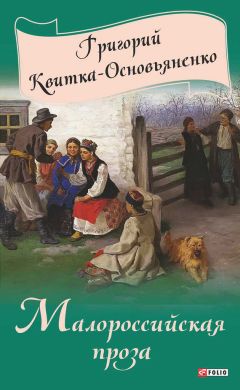Ознакомительная версия.
Не будем пытаться перечислить все упоминания об этой повести в письмах Квитки, но обратим особое внимание на письмо Плетневу от 26 апреля 1839 г. «Писав „Марусю“, я не узнал себя, что могу так писать. <…> Когда вышла первая часть повестей, отовсюду были отзывы, что они плакали, как Марусю погребали, и я готов был плакать о них. Были и такие, что благодарили меня, что я доставил лакеям их чтение, понимаемое ими; натурально, что я смеялся над такими. Немногие заметили, как Маруся, с Василем пересыпаясь песочком, когда говорила с ним о чувствах своих, и сказали, что мне не нужно другой эпитафии „Он написал Марусю“»[58].
Что же касается желания Квитки «слышать беспристрастное заключение: имеет ли повесть „Маруся“ что-нибудь из того, что желалось выразить», то он получил его от Белинского, сказавшего именно те слова, которые, на наш взгляд, должны были запасть в самую его душу: «Кроме Наума, Маруси, Василя и Насти, в повести „Маруся“ есть еще герой – и герой первый, который важнее и Наума, и Василя, и Насти, и самой Маруси: это – Малороссия, с ее поэтическою природою, с ее поэтическою жизнию простого народа, с ее поэтическими обычаями. Этот-то герой и составляет всю заманчивость, всю поэтическую прелесть повести. Автор в лицах этой повести передал известные черты этого героя не как художник, а как описатель и человек глубоко чувствующий. Поэтому каждая страница, каждое слово его проникнуто, согрето чувством. Кроме того, рассказ его отличается малороссийским простодушием, которое очень удачно передано переводчиком. Можно ли без умиления и наслаждения читать подобные места? <…> И вся повесть состоит из таких мест. Быт сельских жителей, их нравы, обычаи, поэзия их жизни, их любовь – всё это изображено так, что стоило бы более подробного рассмотрения. Взгляд автора на человеческое сердце очень прост, даже простоват; но эта простота накидная, притворная – сквозь нее проглядывает глубина и могущество мысли…»[59]
Автор начинает «Марусю» таким рассуждением: «Часто мне приходит на мысль: для чего бы человеку так сильно привязываться к чему-нибудь, не только к вещи, даже и к милым для нас людям: жене, детям, искренним приятелям и другим? Прежде всего подумаем: разве мы на сем свете вечные? И что есть у нас, – скотина ли, хлеб на гумне, имущество в сундуках, – разве этому всему так без порчи и быть? Нет, ничто на свете не вечное; да и ты сам что? Сегодня жив, завтра что бог даст!»
Смысл и функция этой сентенции, конечно, не в том, чтобы напомнить известное каждому «Memento mori». Все дело в тональности, в которой об этом сказано. Ведь сборник, в котором читатель впервые увидел «Марусю», назывался «Малороссийские повести, рассказываемые Грыцьком Основьяненком», и уже этим Квитка ориентировал и себя, обозначенного не полным именем, а уменьшительным: «Грыцько», и своего собеседника, которому говорит вещи хорошо ему известные, на тональность обыденного доверительного разговора. Этот собеседник – сельский житель, каковыми было в ту пору большинство украинцев: его достояние – «скотина», «хлеб на гумне».
И эту тональность он заботливо сохраняет на всем протяжении повествования, в котором через каждые несколько строк появляются такие характерные для бытовой беседы обороты: «Вот постигла его злая беда. Что же он? Ничего», «Об одном только они тужили: не посылал им Бог детей. Так что же?», «Да и рады же были оба, и Наум и Настя!», «Да и что-то за дитя было!», «Цур им! Согрешишь только, глядя на таких», «А чтоб какой парубок да посмел бы ее затрогать? Ну, ну! Не знаю», «Что ж Маруся? И она, сердечная, что-то изменилась…», «Да уж и танцюра! У нас такого во всей слободе нет», «…Она пока не вошла в другую улицу, то даже три раза оглядывалася. А для чего? Кто ее знает? Девичью натуру трудно разгадать». Это выписано нами лишь с первых нескольких страниц повести. Но Квитка на всем ее протяжении сохранит эту доверительную тональность, присущую разговору с близким человеком, которому без раздумий выплескивает все, что лежит на душе.
А служит эта тональность тому, чтобы читатель глубже воспринял и ощутил содержание повести, в которой описана подлинная, высокая трагедия. Этому подчинены все умело и со вкусом отобранные Квиткой элементы ее стиля. Он добивается того, чтобы мы вместе с ним полюбили Марусю и любовались ею. «Да что же за девка была! Высокая, пряменькая, как стрелочка, черноволосая, глазки как терновые ягодки, черные брови как на шнурочку, личиком румяная, как роза, что в панских садах цветет, носик себе пряменький с небольшим горбиком, а губки как цветочки расцветают и между ними зубки, точно как жерновки, как одна, на ниточке снизаны; когда было заговорит, то так пристойно, разумно, как будто флейточка заиграет нежно, что только бы ее и слушал; а как улыбнется да поведет глазками, а сама покраснеет, так вот точно, как будто шелковым платком оботрет запекшиеся уста».
Под стать ей и «Василь, хлопец славный, белокурый, чисто подбритый, чуб опрятный, усы казацкие, глаза веселые, как звездочки, лицом румяный, проворный, живой, учтивый; жупан на нем синий и китайский чекмень; поясом из английской каламенки подпоясан; в тяжинных шароварах; сапоги славные с подковами». Но, увидев Марусю, «стал наш Василь сам не свой, и как там говорят, как обваренный. То был веселый, шутливый на выдумки, на прибаутки прежде всех; только его и слышно, от него вся хохотня. Теперь же тебе хотя бы полслова проговорил. Голову понурил, руки опустил под стол и ни до кого ни полсловом; все только взглянет на Марусю, тяжко вздохнет и опустит глаза вниз».
«Что же Маруся? И она, сердечная, что-то изменилась: то была, как и всегда, тиха, а тут уж и вовсе, хоть домой идти. Что-то ей стало и скучно и грустно, и как взглянет на Василя, так ей так его жаль станет, а чего? И сама не знает. Разве, может, того, что и он сидит такой невеселый. А еще пуще, как один на одного разом взглянут, Марусю как лихорадка из-за спины так и морозит… И все бы она плакала. А Василь как будто в самой душной хате, как будто кто его тремя тулупами покрыл и горячим сбитнем поил. Вот они скорей один от другого отворотятся и кажется, что и не смотрят; но вот Василь только рукою поведет или голову куда повернет, то уже и Маруся и покраснела, и опять взглянутся между собою».
Детальность этих описаний полна глубокого смысла. Для того чтобы читатель воспринял дальнейшее развитие событий так, как это задумано автором, он должен уже сейчас проникнуться как можно большей симпатией к героям повести, воспринимать их беды, как свои собственные. Важно поэтому не только то, что Маруся и Василь красивы, но и то, что чувства, вспыхнувшие в них обоих, целомудренны, и выражают они их так, как то предписано народной моралью. Квитка любуется и побуждает своего читателя любоваться не только бровями и губками Маруси, усами и глазами Василя, но тем, как сдержанно они себя ведут, какую проявляют способность не выставлять напоказ окружающим происходящее в их душах.
При этом необходимо не забывать об одной важной особенности произведений Квитки. Когда мы читаем, например, романы Жюля Верна, нам совершенно безразлична национальность их героев. Мы и в памяти не держим, что капитан Грант и лорд Гленерван – англичане, Жак Паганель и Пьер Аронакс – французы, а Сайрус Смит и Гидеон Спилет – американцы. С их характерами это совершенно не связано. Иное дело Квитка. Персонажи его произведений, как, впрочем, и персонажи «Вечеров на хуторе близ Диканьки», – это именно и только украинцы, люди, выросшие в украинской среде, воспитанные в украинских традициях.
Белинский, не бывший украинцем и, кажется, даже не бывавший на Украине, проявил изумительную чуткость, когда написал, что главный герой «Маруси» (и, конечно, не только «Маруси») – это Малороссия и при ее характеристике четыре раза подряд повторил эпитет «поэтический» («с ее поэтическою природою, с ее поэтическою жизнию простого народа, с ее поэтическими обычаями. Этот-то герой и составляет всю заманчивость, всю поэтическую прелесть повести»). Нет сомнения, что для него этот эпитет заключал в себе очень значимую положительную оценку. Вспомним, что и Даль определял это слово как «изящный», «относящийся к поэзии», а поэзию (в числе прочих значений) – как все «духовно и нравственно прекрасное» и как «изящество, красоту, как свойство, качество, не выраженное в словах». Не приходится сомневаться и в том, что читателями своей повести Квитка видел прежде всего украинцев и исходил из того, что ее герои будут ими оцениваться, исходя из норм и традиций украинской морали.
Если мы проникнемся теми побуждениями, которыми руководствовался Квитка, то не будем упрекать его ни в пространных описаниях, ни в углублении в детали переживаний влюбленных, всплесках ревности, испытываемых ими, и тех препятствий, которые им приходилось преодолевать. Наум и Настя, конечно, любят Марусю. Квитка не случайно упоминал о том, как они ждали ребенка и как благодарили Бога, пославшего им «дочечку». Но понять происходящее в ее душе им не дано. Это понимает только Квитка, отсюда и высокая эмоциональность его сопереживающих слов: «Вот так-то бедная Маруся, не хотевши и вспоминать про Василя, только об нем одном и думала. И хоть бы тебе в часок глазки свела! Плакала да грустила целехонькую ночь. А и длинная же у нас и ночь на Зеленой неделе! <…> Боится, а сама не знает чего… Если бы земля расступилася, она так бы и бросилась туда, да и… Василя потащила бы с собою; когда б ей крылья… улетела б она на край света… да не одна, а все-таки с Василем… Что же ей делать? Земля не расступается, крыльев у нее нет, ноги как будто не ее». «И Василь, – продолжает Квитка свой рассказ, – был не лучше ее. Не только работу, оставил хозяина и город; знай, бродит вокруг села, где живет Маруся. Ходит, ходит – в бор пойдет; над озерами, где с нею сидел, сядет: нет Маруси, не идет Маруся».
Ознакомительная версия.