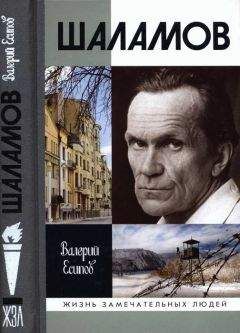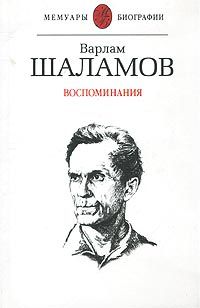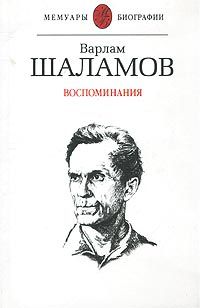Среди тонких наблюдений писателя об обычаях тех мест, в которых он вырос, чрезвычайно примечательно одно: «На вологодском рынке всегда продавалось молоко первосортное. Разрушен мир или нет — на жирности молока это не отражалось. Торговки никогда не доливали молоко водой…»
Такие нравы всегда казались удивительными, патриархальными и наивными всем приезжим. Сам Шаламов называл Вологду «честной, христолюбивой» (последнее — с оттенком мягкой и доброжелательной иронии). Он вырос на этой почве. И как бы ни пытался сам он отрицать ее влияние на себя (по его классификации, влияние «первой» и «второй» Вологды — исторической и краевой), разве не впитал он эту почву в себя, в свою душу? Лучше всего об этом скажут его стихи, где колымская ипостась его биографии отчетливо и нерасторжимо сливается с родовой:
Я — северянин, я ценю тепло,
Я различаю — где добро, где зло…
Глава вторая.
НЕТИПИЧНАЯ СЕМЬЯ НЕТИПИЧНОГО РУССКОГО СВЯЩЕННИКА
Со старинным городом, где вырос Шаламов, связано множество преданий. Одно из них — самое знаменитое, об Иване Грозном и Софийском соборе — он услышал, наверное, едва ли не в колыбели, как первую сказку. Ведь Софийский собор стоял прямо перед его родным домом, и не посвятить ребенка в историю о том, как на самого(!) царя(!) Грозного(!) упал(!) с потолка(!) кирпич(!) — да вот тут рядом(!), в этом самом соборе(!), смотри(!) — значило бы не выполнить обета приобщения к чудесам мира сего… Уже позднее Варлам прочел и былину, запечатлевшую это происшествие, и узнал, что грозный царь, собиравшийся перенести столицу из Москвы в Вологду из-за козней бояр, отказался от этого намерения, сочтя падение кирпича (плинфы, куска штукатурки) недобрым предзнаменованием.
— И слава богу, что отказался! — издавна говорили по этому поводу вологжане. — Не надо нам быть столицей. У нас лучше, спокойнее…
Провинциальность тихого города, чье население в начале XX века едва превышало 30 тысяч человек (оно возросло лишь в начале Первой мировой войны), где, по свидетельству Шаламова, люди жили почти деревенским укладом — «вставали с солнцем, с петухами», где «река текла такая тихая, что иногда течение вовсе останавливалось» (река Вологда находилась почти рядом с его домом, под Соборной горкой), — эта провинциальность была, как считали все, кто приезжал сюда впервые, умилительной и умиротворяющей. А как выражаются теперь — самодостаточной, уважающей себя и совсем не расположенной что-либо резко менять в своем образе жизни.
Петр I — другой из великих царей, оставивший свой след в вологодских легендах (он бывал здесь пять раз), пытался «пришпорить» развитие города, используя торговый путь в Архангельск, но вскоре, после постройки Петербурга, Вологда оказалась «за штатом» и пошла неспешным путем всех средних российских губернских городов. Уже XIX век не добавил почти ничего нового в ее размеренную жизнь и ее облик (не считая железной дороги и вокзала) — все лучшие здания и храмы, являющиеся ныне памятниками архитектуры, были построены в XVII-XVIII веках.
Приметой нового времени являлась, кроме прочего, резкая убыль учеников в Вологодской духовной семинарии (в самом большом в городе здании) — по популярности среди родителей и детей она теперь намного уступала гимназии и реальному училищу и пополнялась главным образом за счет отпрысков церковного клира уездных приходов.
Отец Шаламова принадлежал к тому поколению, когда Вологодская семинария («бурса») еще сохраняла особую славу в России, и при всем консерватизме, присущем подобным учебным заведениям, была в определенном смысле более свободомыслящей и прогрессивной, нежели гимназия. Демократические традиции 1860-х годов вошли сюда глубже — и потому, что состав воспитанников был гораздо проще, беднее, и потому, что здесь помнили о некоторых своих предшественниках-семинаристах, ушедших не в приходскую службу, а в революцию, в народники-пропагандисты. При незримом присутствии в стенах семинарии «совиных крыл» обер-прокурора Синода К. Победоносцева (в 1880-е годы по его распоряжению из библиотек духовных учебных заведений была изъята почти вся светская литература, начиная с Л. Толстого), в связи с церковной реформой 1860-х годов бурсаки нового поколения получили гораздо больше свободы, нежели их предшественники. Они имели право не возвращаться в свои родные приходы и поступать после выпуска в университеты или на гражданскую службу. Той же реформой возведенным в сан православным священникам было впервые даровано право — неслыханное дело — свободной проповеди! Этот поистине революционный для церкви прорыв (сопровождавшийся, правда, цензурными ограничениями) открывал перспективу наиболее развитым семинаристам, которые не желали, как отцы и деды, вечно «долдонить» литургический канон. Соответствующим образом были перестроены и программы — в них вошла гомилетика (теория церковного проповедничества), а также французский и немецкий языки.Надо заметить главное — в эпоху всеобщей «эмансипации» служение Христу стало восприниматься основной частью бурсаков далеко не так, как требовали схоластические богословские науки — не отвлеченно, а, можно сказать, утилитарно — как живое служение прежде всего самому бедному «меньшему брату Христа» — народу, крестьянству.
Все соответствовало духу времени, где безраздельным властителем дум молодежи — и внецерковной, и церковной — был великий печальник о народе и великий творец мифов о нем Н.А. Некрасов. (Этой проблемы, в связи с отношением Шаламова к русской литературе второй половины XIX века, к народничеству, мы коснемся позднее, а пока напомним два очень символичных и многозначительных факта. В 1878 году на похоронах Некрасова впервые было громко заявлено, прокричано — той же молодежью — что «Некрасов выше Пушкина!». Поздний Шаламов — совершенно в духе Достоевского, присутствовавшего на этих похоронах, — считал, что «эта сцена не делает чести русскому обществу». Примерно в те же годы Л.Н. Толстой, тоже большой знаток крестьянской души и тоже особого рода мифотворец, услышав в очередной раз надрывные строки Некрасова о русском мужике, который всюду только и делает, что «стонет» — «по полям и дорогам… под овином, под стогом», не выдержал и возмутился: «Это где же он стонет? Я что-то не слышал…»)
Некрасов, как не раз свидетельствовал Шаламов, был и до конца дней остался для его отца единственным настоящим авторитетом во всей русской литературе. Неудивительно, что на фотографии выпускников семинарии 1890 года молодой Тихон всеми своими чертами напоминает образ идеального некрасовского юноши Гриши Добросклонова — с открытым лбом и просветленным взором, наполненным жаждой сеять «разумное, доброе, вечное». Хотя эра Некрасова к 1890-м годам в России уже закатывалась (как и эра шедших с ним рука об руку художников-передвижников), во всей заштатной периферии с ее неизбежным отставанием от общественных «смен вех» и культурных «мод» она была еще в самом разгаре. Недаром Шаламов называл Некрасова «кумиром русской провинции», и недаром именно из-за Некрасова, из-за постоянной назойливой апелляции отца к нему, разгорелся потом главный семейный мировоззренческий (а не только литературный) конфликт.