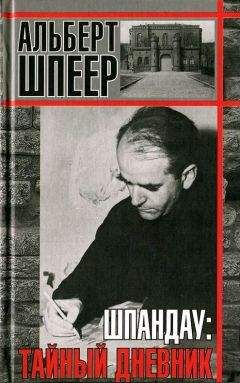На самом деле, Гитлер почти всегда придерживался этого принципа. Он занял агрессивную позицию в ранние годы в Мюнхене. Его внешняя политика тридцатых годов была агрессивной, с бесконечной чередой неожиданных маневров. Развязывание войны само по себе служило примером агрессивной политики, и пока мог, он вел военные действия в наступательной манере. Даже после переломного момента в войне, капитуляции Сталинграда, он организовал наступление на Курск — эта операция носила кодовое название «Цитадель». Как будто он всегда знал, что у него есть только один выбор — атака или поражение, словно потеря инициативы сама по себе приравнивалась им к проигрышу. Именно по этой причине Гитлер был вдвойне потрясен, когда и эта последняя атака провалилась, попросту увязнув в грязи. Он приказал сорвать почетные нарукавные нашивки с солдат охраны и других дивизий СС. Зепп Дитрих рассказал мне, что потом он бросил свои знаки отличия в костер, в котором горели нашивки.
— Знаете, — в заключение сказал он, — Гитлер давно сошел с ума. Он попросту швырнул в пекло своих лучших солдат.
Зепп Дитрих командовал передовыми частями, поэтому он очень редко оказывался в наэлектризованной, в буквальном смысле безумной атмосфере, царившей в ставке фюрера. Что и помогло ему сохранить остатки здравого смысла и собственного мнения. Он практически никогда не становился объектом тирад Гитлера, искажавших представление о реальности у огромного числа людей. Наверное, мне следует воспроизвести один из этих монологов, которыми Гитлер, с нарастающим напряжением в голосе, изводил свою свиту.
— Русские истекают кровью, — начинал он. — После отступлений за прошедшие месяцы у нас появилось бесценное преимущество — нам больше не нужно защищать эти огромные пространства. И по собственному опыту мы знаем, что после своего стремительного наступления у русских, должно быть, не осталось сил. Вспомните Кавказ! Значит, теперь такой же переломный момент, как у русских, возможен и для нас. Должен сказать, я в этом абсолютно уверен. Подумайте! Русские понесли колоссальные потери боевой техники и людей. По нашим оценкам, они потеряли пятнадцать миллионов человек. Это огромная цифра! Они не смогут отразить следующий удар. Они его не выдержат. Наша ситуация не идет ни в какое сравнение с 1918 годом. Даже если наши враги думают именно так.
Как часто бывало, Гитлер впал в состояние эйфории под влиянием собственных речей.
— Те, кто сегодня на дне, завтра могут оказаться на самом верху. В любом случае мы будем сражаться дальше. Удивительно видеть, с каким фанатизмом самые молодые возрастные группы бросаются в драку. Они знают, что осталось только два варианта: либо мы решим эту проблему, либо нас всех уничтожат. Провидение никогда не оставит нацию храбрых солдат, — так Гитлер перефразировал Библию. — Нация, в которой есть хотя бы один праведник, не исчезнет с лица земли.
Несомненно, этим праведником он считал себя. Среди его любимых фраз в те последние недели было утверждение: «Тот, кто не сдается, обязательно победит». Довольно часто он добавлял еще одно замечание: «Но, господа, если мы собираемся проиграть войну, вам всем следует запастись веревками». Когда он говорил в такой манере, в его глазах сверкала свирепая решимость человека, сражающегося за свою жизнь.
— Все, что нам нужно, это еще раз показать врагу — одержав сокрушительную победу, — что он не сможет выиграть войну. Без фанатичной решимости Сталина Россия сдалась бы еще осенью 1941-го. Фридрих Великий в безнадежной ситуации тоже упорно сражался. Он заслужил звание «Великий» не потому, что в конечном счете победил, а потому, что не утратил мужества в тяжелые времена. Точно так же потомки оценят меня не по победам в первые годы войны, а по той стойкости, с которой я переносил жестокие неудачи последних месяцев. Господа, сила воли всегда побеждает!
Это была его обычная манера — заканчивать свои выступления подобными лозунгами.
Во время таких вспышек — обычно он произносил свои пламенные речи, склонившись над картой и устало взмахивая рукой в сторону молчаливой стены офицеров — Гитлер в некотором роде производил впечатление совершенно незнакомого человека. Он в самом деле явился из другого мира. Вот почему на военных советах он всегда выглядел таким неестественным. Но мне всегда казалось, что эта чужеродность была частью его силы. Военных учат справляться с разными необычными ситуациями. Но они оказались совершенно не подготовлены к общению с этим мистиком.
9 ноября 1946 года. Пасмурный день. Слишком темно, чтобы читать или писать. Размышлял. Отличная фраза — «погрузиться в мысли». Она точно описывает то смутное состояние сознания, в котором я пребывал на протяжении нескольких часов. И как результат такого состояния, все, о чем я думал, растворилось в воздухе. Никаких записей.
Ночью при искусственном освещении я нарисовал по памяти Цеппелинфельд. Старую версию с длинными колоннадами. Все-таки она лучше более позднего проекта. Первая идея всегда верная, если в ней нет фундаментальных ошибок.
10 ноября 1946 года. До войны я видел фильм, в котором доведенный до отчаяния человек пробирается по пояс в глубокой воде по парижской канализации к дальнему выходу. Образ этого человека часто преследует меня во сне.
11 ноября 1946 года. За прошедший месяц произошло много изменений к лучшему. Нас каждый день выпускают на получасовую прогулку. Но по отдельности. Нам запрещено разговаривать друг с другом. Однако, когда мы вместе работаем, нам иногда удается переброситься парой слов, если охранники в хорошем настроении.
13 ноября 1946 года. Несколько дней предавался мечтам. На улице — плотный туман. Охранники единодушно полагают, что Гитлер жив.
14 ноября 1946 года. В течение нескольких дней с девяти до половины двенадцатого мы трем металлической мочалкой железные пластины галереи, отчищая их от ржавчины. Потом пластины смазывают маслом. Когда я стою, согнувшись, у меня кружится голова — это говорит о том, как человек слабеет за тринадцать месяцев тюремного существования.
Сегодня, лежа на койке и размышляя, я обдумывал вопрос: будет ли плохо для Германии, если ее сделают технологически отсталой страной? И еще: что, если технологически неразвитый мир предоставляет больше возможностей для расцвета науки и искусства? Если некоторые планы будут воплощены в жизнь и нас низведут до статуса аграрной страны, не станем ли мы счастливее других наций, перед которыми открывается широкое будущее? По иронии судьбы Гиммлер и Моргентау были не столь далеки в своих взглядах от того, что могло бы стать идеальным положением для Германии. Даже если принимать обе теории за тот вздор, каковым они и являются, все равно остается идея нации, лишенной права на все, кроме культуры. Как Германия справится с этим ограничением после нынешней катастрофы? Я думаю о роли Греции в Римской империи, но еще и о роли Пруссии после краха 1806 года.