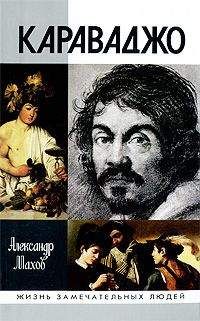В такие минуты отчаяния ему самому хотелось «камнем быть», чтобы отрешиться от мира, и тогда из-под его пера появлялись стихи, написанные кровью сердца…
В отличие от жизнеутверждающей росписи потолка Сикстинской капеллы алтарная фреска — это реквием по утраченным надеждам и втоптанным в грязь гуманистическим идеалам, что так близко, понятно и конгениально людям, живущим в бурном и неспокойном XXI веке. Сама фреска звучит на удивление современно, словно написана в наше время, полное цинизма, безверия, неприкаянности, жестокости, бездушного прагматизма и пугающих апокалиптических настроений.
Последние годы жизни творца приходятся на эпоху Контрреформации с её удушающей угрюмостью, когда, казалось, время повернуло вспять и по всей Италии, обескровленной чужеземным нашествием, заполыхали костры инквизиции и началась охота на ведьм. Это были годы позорных судилищ над вероотступниками и вольнодумцами. Мечты гуманистов из круга флорентийской Платоновской академии о наступлении золотого века, который предсказывали сивиллы и поэты классической древности, века расцвета наук и искусства, земного блаженства, всеобщего согласия, веротерпимости и гармонии в идеальной общности европейской «республики учёных», о чём говорилось в диалоге Томаса Мора «Утопия», — всё это рухнуло при столкновении с европейской действительностью XVI века, сгорело в огне религиозных конфликтов, всеобщего смятения и разлада. Швейцарский искусствовед Генрих Вёльфлин, говоря о Возрождении, отметил, что «во всей истории итальянского искусства нет эпохи более тёмной, чем его золотой век».14
Но великий творец не сдаётся. Борясь с немощью, он извлекает из бренной плоти последние силы, торопясь увенчать гигантским куполом собор Святого Петра, символизирующий победу творческого духа над смертью, но успевает подготовить только деревянный макет купола в натуральную величину. Каждое утро он объезжал верхом различные стройки по его проектам, а по вечерам, словно прощаясь с жизнью и подводя итог пройденному пути, великий мастер высекал из глыбы мрамора свой последний шедевр «Пьета Ронданини» — две едва намеченные резцом фигуры, затерянные в трагическом одиночестве в бесконечности равнодушной Вселенной.
В такие минуты горького раскаяния из-под его пера рождаются стихи, написанные кровью сердца:
Мирские басни времени лишили,
Чтоб с Господом побыть наедине.
И я, забыв о Нём, грешил вдвойне —
Настолько небылицы дух смутили,
Да не в пример другим и ослепили.
Уж поздно ныне каяться в вине,
Но велико желание во мне
Одним Тобою жить, пока я в силе.
Так пособи, Господь мой дорогой,
И сократи мне путь наполовину —
Иного нет желанья и стремленья.
Всё, что ценил я в суете земной,
Перечеркну, забуду и отрину
Во имя долгожданного спасенья! (288)
Неприкаянная старость Микеланджело — это особая тема, ждущая своего более глубокого освещения. Он намного пережил своих великих современников. Его долгая жизнь вся без остатка была отдана искусству и обрела вечность. Незадолго до смерти он сжёг некоторые чертежи, расчёты и эскизы, не желая, чтобы его замыслы подверглись искажению в неумелых руках. Но не тронул рукописи со стихами, оставив потомкам эти бесценные свидетельства его мыслей и горения творческого духа.
Поныне над вечным Римом возвышаются два неравных по высоте, но равновеликих по значимости купола. Возводя Пантеон, древние римляне словно предчувствовали гений Рафаэля, который обрёл здесь последнее упокоение, а ясность и простота его искусства навсегда слились с величавыми формами дивного античного храма. Последнее творение гения Микеланджело, купол собора Святого Петра, — это жемчужина в архитектурном ожерелье Рима. В отличие от бесстрастного Пантеона в нём сконцентрирован сгусток колоссальной энергии, движения и порыва к разгадке извечной тайны бытия.
Глава III ГОДЫ ДЕТСТВА
Кто майской зелени не замечает,
Тому дышать весною не дано (278).
Начнём повествование, как говаривали древние римляне, ab ovo — с яйца, то есть с появления Микеланджело на свет и первых его шагов по жизни, чтобы попытаться понять эту противоречивую, ни на кого не похожую личность, оставившую потомкам великие творения, которые по прошествии пяти с лишним столетий по-прежнему волнуют нас и вызывают глубокий интерес.
В ту памятную мартовскую ночь тихий тосканский городок Капрезе в верховьях Тибра, где на Вернийской горе святой Франциск принял стигматы, мирно спал после воскресного дня беспробудным сном под убаюкивающий шум дождя. Лишь в одном из домов на холме светились все окна, несмотря на ночное время. Там на первом этаже в большой зале при зажжённых свечах ходил из угла в угол podesta — местный градоначальник мессер Лодовико ди Лионардо Буонарроти Симони, щуплый брюнет лет за тридцать.
Он был явно встревожен, не переставая прислушиваться к тому, что происходило в верхних покоях, в ожидании родов жены — черноокой девятнадцатилетней Франчески, дочери благородных родителей Нери Миньято дель Сера и Марии Бонды Ручеллаи.
Полтора года назад она счастливо разрешилась первенцем, наречённым Лионардо в честь покойного деда. А теперь в самое неурочное ночное время под завывание дующего с гор ветра трамонтана озабоченный муж то и дело вздрагивал от доносившихся сверху стонов роженицы, не веря в счастливый исход. Его опасения были более чем обоснованы: месяца четыре назад Франческа во время прогулки по горным тропам упала с лошади. Вызванный из Ареццо врач-акушер был скуп на слова утешения, заявив, что остаётся уповать только на Господню волю. Будучи человеком набожным, мессер Лодовико запалил лампадку перед домашним образком и истово молился.
Ближе к рассвету дождь прекратился, и сверху наконец раздался громкий детский плач — младенец родился живым! У отца отлегло от сердца, и он перекрестился. Наверху затопали и забегали служанки, гремя тазами и вёдрами с горячей водой, а повитуха, появившись на лестнице, радостно оповестила:
— Мессер Лодовико, у вас сын — поздравляю!
Но к жене наверх счастливого отца не пустили — нужно было ещё обиходить обессилевшую роженицу, которая вскоре уснула. Пока суд да дело, мессер Лодовико, любивший во всём порядок, взял с полки объёмистую домовую книгу, куда скрупулёзно записывал свои доходы и расходы, равно как и разные житейские дела. Так в ней появилась запись о том, что в понедельник 6 марта 1475 года по римскому календарю или в 1474 году по календарю флорентийскому за четыре часа до рассвета у него родился второй ребёнок — сын.