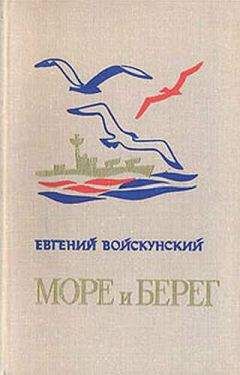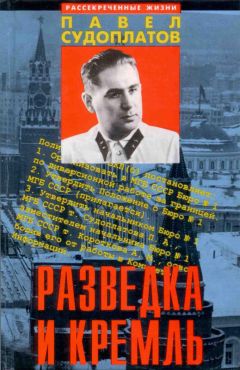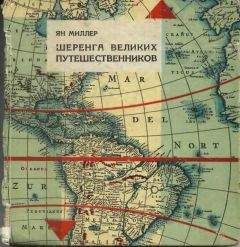Я сидел в бывшей церкви на бывшем пасторском месте, но ведь это не означало, что я обязан слушать исповедь. А Местецкий прямо-таки исповедовался. Даже притащил свой дневник и настоял, чтобы я прочел. Дневник был очень искренний, прочувствованный… Автор вспоминал Киев, детство, любимую девушку…
Но я-то не годился в исповедники. Мне самому впору было вывернуть душу перед добрым, понимающим человеком. Со Славкой Спицыным мы говорили обо всем, и о сугубо личном тоже, но это были разговоры двух похожих друг на друга восемнадцатилетних мальчишек. С Местецким было иначе. Подчас возникала неловкость от такого истового самокопания.
Наверное, я был скрытный. Почти ничего я не рассказывал ему о себе. Подозреваю, что Генрих и не стал бы особенно слушать: ему нужен был монолог.
Да и что мне было рассказывать? Ну, жил в Баку, кончил в тридцать девятом школу, уехал учиться в Ленинград. Несколько человек из наших двух выпускных классов уехало в то лето в Ленинград. И Лида уехала. Ее тетя, у которой она тогда жила, не хотела отпускать ее из Баку. С трудом мы уговорили тетушку. Лида послала документы в Ленинградский университет на филфак, ее, как отличницу, должны были принять без экзаменов. Я приехал в Ленинград в июле, раньше, чем она. Был прекрасный солнечный день, я впервые шел по Ленинграду, и у меня дух захватывало от его красоты. С восторгом узнавал я здания и ансамбли, знакомые по книгам, фотографиям, фильмам. Бывают же такие дни: чувствуешь себя легким, удачливым, и лучший в мире город приветствует тебя блеском витрин, звонками трамваев — он уже признал тебя своим, — а вот и Нева! Ах ты ж, господи, какая синева, ширь! И как здорово горит на солнце купол Исаакия!..
С моим зачислением на факультет истории и теории искусств все оказалось в порядке. Будто на крыльях пронесся я по набережной от Академии художеств до университета. Вот оно, старинное здание «двенадцати коллегий». Это за него, кажется, Петр задал трепку Меньшикову, который велел поставить свой дворец вдоль Невы, а «двенадцать коллегий», нынешнее здание университета, вытянул длинной кишкой перпендикулярно к набережной.
Замотанная сотрудница приемной комиссии долго рылась в толстых папках. Сейчас она скажет: «Да, зачислена», и я помчусь телеграфировать Лиде: мол, все в порядке, скорее приезжай, жду…
— Ей отказано, — сказала сотрудница, найдя какой-то список.
— То есть как?.. — Я не верил своим ушам. — Не может быть, это ошибка…
— Отказано, — повторила она. И, взглянув на меня, добавила: — Большой наплыв отличников на филфак, всем не хватило мест. Документы ей выслали обратно.
Я побрел к выходу. У трамвайной остановки, у киоска с газированной водой толпились парни и девушки. Парочки сидели на гранитном парапете набережной. По Неве волочил длиннющую баржу буксирный пароходик «Виктор Гюго». Он выбрасывал густой черный дым, и дым расползался, застил солнце.
Никто, никто в этом померкшем мире не знал, какая свалилась на меня беда.
Мы с Лидой учились в параллельных классах и не обращали друг на друга особого внимания, пока не наступила выпускная пора. Перед самым окончанием школы, словно испугавшись, что жизнь разведет теперь в разные стороны наши дороги, мы рванулись друг к другу.
Хорошо нам мечталось под акациями на Приморском бульваре; были теплые вечера, из темной дали бухты нам обнадеживающе подмигивали белые и красные фарватерные огни. Хорошо было лежать на залитом солнцем бузовнинском пляже, пересыпая меж пальцев медленный, текучий песок. Хорошо было сидеть плечо к плечу в летнем кинотеатре «Красный Восток» и смотреть «Семеро смелых» или «Искатели счастья». И вместе читать новоизданную «Песнь дружбы» Келлермана. Жизнь лежала перед нами большая, непочатая, и было немного тревожно от неизвестного будущего, от того, что скоро мы уедем из Баку, от забот родных, от привычного быта, от прочитанных книг. Лида сказала однажды: «Начинается у нас новый этап…»
И вот — все рухнуло в какой-то миг. «Отказано».
Невозможно было себе представить, что мы будем не вместе. Что кончилось недолгое (меньше месяца!) наше счастье… вернее, предчувствие счастья…
Я шел по Республиканскому мосту, растерянный, подавленный. Вдруг меня осенило: на филфаке мест нет — а на других факультетах? Я пустился бежать обратно в университет. Та же сотрудница приемной комиссии вскинула на меня удивленный взгляд.
— На других факультетах? Да, есть еще несколько мест для отличников на историческом. Но учтите, что…
— Можно, я напишу за нее заявление?
Она пожала плечами:
— Ну, если вы уверены, что она хочет на истфак…
— Она хочет, — твердо сказал я и написал заявление от имени Лиды.
Потом с ближайшей почты я послал Лиде срочную телеграмму: «Филфак отказано отсутствием мест единственная возможность истфак срочно телеграфируй приемную комиссию согласие вышли авиапочтой документы…»
Сомнения пришли позже: какое, собственно, право я имел решать за нее такой сложный вопрос, как выбор специальности? Ведь это — на всю жизнь! Я искал оправдания своему поступку в том, что история — самая интересная из наук, что она тесно связана с языком и литературой…
Лида выслала документы и была зачислена на исторический факультет. В конце августа она приехала в Ленинград. Она не ругала меня, нет, только спросила:
— Почему ты был так уверен, что я соглашусь пойти на истфак?
Я повел речь о том, какая прекрасная наука история и как тесно связана она с филологией. Лида не прерывала, но я чувствовал, что категорический тон моей телеграммы задел ее самолюбие. Действительно, нельзя было так… необдуманно…
— Я только потому согласилась, — сказала она, — что, может быть, удастся потом перейти на филфак.
— Конечно! — с жаром одобрил я. — Это совсем несложно…
Моя восемнадцатилетняя жизнь была бедна событиями и переживаниями, и я почти ничего не рассказывал о себе Генриху Местецкому. Я слушал его с сочувствием, настроение его было мне понятно и в то же время вызывало смутный протест. Что ж вздыхать по утраченной детской беззаботности — пора становиться мужчинами. А тут еще Славкин мудрый Смайльс подсказывал: «Тот, кто в двадцать лет ничего не испытал, — в тридцать лет ничего не знает, а в сорок — ничего не делает…»
* * *
Одна из первых забот человека, начинающего военную службу, — сфотографироваться и послать карточки родным и близким: вот, мол, каков я теперь. Я не составлял исключения. К тому же Лида попросила в письме прислать фотокарточку.
Фотография была в городе, и однажды в конце ноября, получив первую свою увольнительную, я отправился туда. Отмахав километра три по лесной дороге, я увидел, как забелели меж сосновыми и еловыми стволами первые домики города Ханко (или, точнее, Ганге). Они казались игрушечными — аккуратные такие, сколоченные из ладных досок, весело раскрашенные, с застекленными верандами. Весь городок был деревянным, уютным. Чистенькие улочки взбегали круто вверх, огибали гранитные скалы, устремлялись вниз, к морю, или плавно переходили в лесные тропинки. Каменных домов было мало — ратуша, в которой теперь помещался Дом флота, мрачное красное здание близ порта, занятое штабом базы, и готическая кирха с высоким шпилем — здесь находился клуб бригады торпедных катеров. Над водонапорной башней развевался красный флаг.