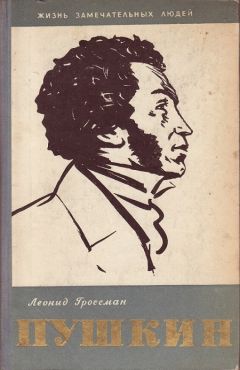Ознакомительная версия.
Крепостные нянюшки окружали колыбель младенца. Одна из них, нянчившая его сестру Ольгу, обратила на себя внимание Пушкиных своим метким языком. Ее образные словечки навсегда остались в преданиях семьи, а замечательный дар народной сказочницы определил ей службу при детях. Крепостную няню звали Ариной Родионовной.
Это была сорокалетняя женщина, хорошо помнившая времена Чесменской победы и Пугачевского восстания. Она родилась 10 апреля 1758 года в вотчине графов Апраксиных — мызе Суйде, то есть в старинной Ижорской земле, захваченной в XVII веке шведами, но снова отвоеванной Петром. Этот многострадальный край хранил кровавые воспоминания о вековой борьбе за берега Балтийского моря и запомнил отголоски старинных битв в устной поэзии новгородцев, финнов и великорусских крестьян, переселенных сюда в начале XVIII века.
В этой среде и родилась крепостная девка Арина. Годовалым младенцем она стала «рабыней» знаменитого генерал-аншефа Абрама Петровича Ганнибала и оставалась его собственностью в течение двадцати двух лет, то есть до самой его кончины в 1781 году. Она хорошо помнила своего грозного барина и могла многое рассказать о «царском арапе» по своим личным впечатлениям от его необычайной фигуры и неукротимого нрава.
От знаменитого питомца Петра Великого молодая песельница перешла по наследству к его третьему сыну — Осипу Абрамовичу Ганнибалу, имение которого уже в 1784 году было предоставлено правительством покинутой им семье — Марье Алексеевне Ганнибал с малолетней дочерью Надеждой. А через тринадцать лет овдовевшая «крестьянская женка» Арина Родионовна становится нянькой в семье своей бывшей барышни, где ей и суждено было навсегда обессмертить «дивным даром песен» свое безвестное имя.
Вскоре после рождения сына Пушкины уезжают на некоторое время в село Михайловское к Осипу Абрамовичу Ганнибалу, а оттуда в Петербург, где они пробыли около года.
Павловский режим шел полным ходом к своей гибели. Охваченный манией борьбы с революцией Павел I продолжал утверждать свое «царство ужаса»: полновластно действовала тайная полиция, цензура беспощадно душила печать, частные типографии были закрыты, литература замерла.
Неумолимый и мелочный этикет совершенно сковал жизнь Петербурга. Во дворце мужчины и женщины одинаково преклоняли перед императором колено и целовали ему руку. На улицах все проезжающие выходили из экипажей и отвешивали поклоны царю. Малейшее нарушение этих правил вызывало грозные гонения и взыскания. Вот почему появление Павла I на улице считалось сигналом к всеобщему исчезновению. Царя приветствовали паническим бегством.
Только таким уличным церемониалом можно объяснить курьезный эпизод ранней биографии Пушкина. Павел I лично сделал выговор его няньке за то, что та не успела при приближении императора вовремя снять головной убор с годовалого ребенка. Случай этот мог бы сойти за анекдот, но в атмосфере павловской регламентации уличных приветствий он становится понятным. Сам Пушкин изложил впоследствии это странное происшествие в своих письмах, придавая ему значение некоторого предвестия своих будущих распрей с царями. Поклонами он действительно не баловал венценосцев до самого конца своей жизни.
В начале 1801 года Сергей Львович возвращается в Москву и селится «на Чистом пруде» — между воротами Покровскими и Мясницкими, где Меньшикова башня.
Конец павловской эпохи возвещал и возрождение русской литературы. С весны 1801 года вновь раздались голоса поэтов. «Возникли юные блистательные таланты, — писал Греч, — Жуковский, Батюшков, кн. Вяземский, Гнедич». Снова заговорил Крылов; «появились журналы, альманахи, критика и полемика». Братья Пушкины вернулись к своей любимой поэтической деятельности, и у Сергея Львовича открылись литературные вечера.
В эти годы семья часто меняет квартиры, но обычно проживает в том же участке старой Москвы, то есть в Немецкой слободе и Огородниках (где преимущественно селились литераторы и ученые).
С этими северовосточными кварталами города связано раннее детство Пушкина. Он играл ребенком у Чистых прудов, любовался стрижеными кущами юсуповской «Версали», развлекался уличными сценами у Покровских и Мясницких ворот. Многих иностранцев поражал ежегодный весенний праздник освобождения птиц. В этот день московский «серенький люд» — дворовые, крепостные, слуги, крестьяне — толпами устремляются на площади, где каждый покупает клетку с птичкой, чтобы дать пернатой узнице свободу при радостных возгласах окружающей толпы. Есть в этом обычае, замечает один мемуарист, нечто трогательное и одновременно грустное. Это символическое празднество кажется почти оскорблением, нанесенным несчастным людям, пребывающим в состоянии рабства. Пушкин с детства полюбил этот «родной обычай старины», дарующий свободу «хоть одному творению».
Вокруг расстилалась Москва — «большое село с барскими усадьбами», пестрый, разбросанный, людный город, с бревенчатыми и вовсе немощеными улицами, с питейными домами, харчевнями и хлебными избами, с колымажными дворами, монастырями, «воксалами» и дворцами.
Маленького Александра водил гулять по городу его дядька — молодой дворовый Пушкиных из болдинских крепостных Никита Тимофеевич Козлов. Он навсегда останется спутником поэта по всем дорогам его жизни и даже будет увековечен впоследствии беглым пушкинским стихом. Незаметно и скромно он займет свое место в ряду близких Пушкину людей, его родных и друзей. Если он и не был стихотворцем (как «импровизировал» вопреки всем источникам Л. Павлищев), он замечательно владел русской речью и широко пользовался ее яркими образами и богатыми сравнениями. Он поразил впоследствии одного из приятелей Пушкина, заявив ему, что барин, живя на даче, показывается в городе лишь на мгновение, «как огонь из огнива». Язык будущего великого организатора русской речи, несомненно, воспринял живую характерность этого картинного народного слога.
Художественное воспитание ребенка Никита выполнял и в своих прогулках с ним по городу. Он впервые познакомил мальчика с пейзажной и архитектурной красотой родной Москвы, не раз воспетой впоследствии в знаменитых строфах.
И ты, Москва, страны родной
Глава, сияющая златом, —
писал Пушкин в набросках к своей последней поэме.
Есть свидетельства о том, что мальчик любил взбираться на колокольню Ивана Великого (она действительно упомянута в его первой поэме). Отсюда расстилался широкий вид на поля и рощи, сторожевые заставы земляного вала, трубы «мануфактур», раскинутых по Китай-городу, Варварке и Мясницкой. Стройно возносились колоннады новых зданий: университета, построенного Казаковым, и «Пашкова дома», воздвигнутого Баженовым (ныне библиотека имени Ленина). Река Неглинная обтекала Кремль. На месте снесенных стен Белого города начинали зеленеть молодые бульвары. Так раскидывалась Москва XVIII века в разноцветной мозаике своих сверкающих крыш, просторная и живописная, трудовая и праздничная — древняя столица государства, великий русский посад, перекресток всех дорог бескрайной родины, «Москва моя!», как воскликнет восхищенно автор «Онегина». Он навсегда запомнил колоритный быт старой столицы с ее знатными чудаками и богатыми проказниками, окруженными толпами дворовых, арапов, егерей и скороходов, сопровождавших торжественные выезды своих бар в каретах из кованого серебра.
Ознакомительная версия.