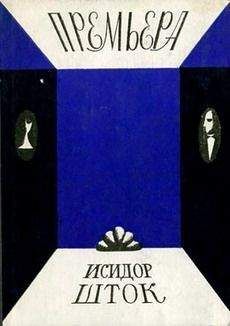Может быть, именно в эту ночь я стал драматургом.
У дирижера Палешанина дочь покончила с собой. Бросилась под поезд. Было ей девятнадцать лет. Она была хорошенькая, черненькая, с кудряшками, училась на Высших музыкально-драматических курсах пению. Причина самоубийства – неразделенная любовь. Кажется, к одному драматическому тенору, исполнителю Самозванца, Германа, Радомеса.
В первые годы революции, когда люди умирали на фронте от ран, от тифа, от голода, умирать от любви было как-то неуместно. Просто неучтиво. Бессмысленно.
И отец ее к течение нескольких дней из Щеголя, аккуратного и интересного мужчины, превратился в согнутого старичка, небритого, с красными слезящимися глазками, понуро бродящего по улице, где помещался оперный театр. Дирижер жил один, никого, кроме дочери, у него не было, и вот… Горе его было настолько велико, что его даже никто не утешал. А друзья говорили, что Таня не бросилась под поезд, а, проходя по рельсам, просто почувствовала себя плохо.
Жалко было эту девчонку страшно. А тенор, герой ее романа, был довольно ничтожный человек, малограмотный актеришка, да к тому же еще и детонировавший в ариях и в ансамблях. За что его терпеть не мог мой отец. Л теперь возненавидел. В общем, через три месяца тенор ушел из труппы и переехал в другой город. А Таню мы все не могли забыть.
Я учился в школе строительной специальности. Из меня готовили техника-строителя, десятника, впоследствии инженера. Занимался я прескверно. Ходил на уроки нерегулярно. По физике, химии, черчению и геодезии был на последнем месте. На кой черт мне были эти науки, я не знал и никто этого мне пояснить не мог. Особенно я не любил геодезию и избегал ее всячески. Собственно говоря, я и сейчас не понимаю, зачем нужно учить человека наукам, которые ему прямо противопоказаны. Никогда насильное обучение не давало никакой пользы… Спустя много лет, попав на долгое время в Магнитогорск, будучи журналистом, я вдруг понял, как увлекательны постройка, монтаж и кладка доменных печей, мартенов, коксовых батарей, электростанций. Тогда, в строительной профшколе, мне и в голову не приходило, как в результате таких утомительно нудных занятий могут произойти люди, создающие сказочные города, заводы, комбинаты…
Из школы меня не выгоняли исключительно из-за бурной общественной деятельности. Я был руководителем драмкружка, его бессменным режиссером. Каждые два-три месяца мы выпускали новый спектакль. Мы ставили «Лекарь поневоле» Мольера, «Игру в плаху» Юрия Олеши, «Три путника и оно» Луначарского…
Спектакли были неважненькие, но в райкоме комсомола и в отделе народного образования нами были довольны, и директор гордился драмкружком.
К концу каждого семестра я подтягивался и кое-как сдавал экзамены, работал в мастерских, ходил на практику в канализационную артель.
А вечером, после утомительного дня, надевал чистый костюм и шел к Мите Багрову, на квартире которого мы устроили свой собственный «интимный театр-студию» под названием «Зеленый попугай».
У нас были композитор, свой поэт. До глубокой ночи мы сочиняли и репетировали различные песенки и скетчи, исполняли модные в тот год «Малютку Нелли», «Чичисбея», «Ночной Марсель». Мы изображали негров, парижских бульвардье, неаполитанских нищих…
Героиней наших представлений была Лиля Арендт. Она сидела на двух поставленных один на другой табуретах, изображающих бочку эля, а мы с Митей Багровым и его двоюродным братом Петькой изображали звероподобных матросов.
Она пела:
Мы пели:
Она пела:
Мы пели:
И все вместе:
Но как ни плачьте,
Висеть на мачте
Нам все равно суждено.
И она вскрикивала:
Так мы работали, восхищенные песнями, самими собой и тем, что родители Мити Багрова уехали на все лето в Луганск на работы в рудники.
Мы нигде не выступали. Потому что выступать было негде, да и репертуар у нас довольно подозрительный.
Кроме того, я боялся отца. Он запретил мне выступать. К драмкружку в школе он относился как к неизбежному злу, но особого значения не придавал. Всякие же студии, театры, публичные выступления он мне запретил строго-настрого. И я боялся его ослушаться. Я знал его крутой нрав и тяжелую руку и боялся его страшно. Да и не его одного. Я боялся всех: преподавателей профшколы, соучеников, артельных мастеров, мальчишек на улице. Боялся и ожидал всего самого неприятного от окружающих.
В одном только «Зеленом попугае» – на квартире у Багрова – я чувствовал себя вольготно. Там мы были неистощимы на шутки, экспромты, буффонады. Никакой ответственности ни перед кем и ни перед чем. Казалось, что мы талантливы так, как никто до нас не был и не будет.
Кроме того, мы с Митей Багровым были до безумия влюблены в Лилю Арендт. Да и как было не влюбиться в нее – такую миниатюрную, легкую, с зелеными глазами, с челочкой, с чуть хрипловатым голосом, с всегда улыбавшимися губками.
Когда кончалась репетиция, мы шли ее провожать. Жила она очень далеко, за кладбищем, на самой окраине.
Район этот славился своими хулиганами. То есть таких хулиганов просто нигде на земле не было. Но никто на земле их так не боялся, как я. Если вечером девушку из их района шел провожать городской парень, расправа была с ним безжалостна. Его унижали перед девушкой, мазали ему рожу грязью, заставляли плавать на песке, снимали брюки и в таком виде выгоняли из района.
Жаловаться пострадавший не смел. Карающие руки хулиганов неминуемо настигли бы его в любой части города.
Поэтому мы шли вшестером, иногда вдесятером провожать Лилю. А встречал ее у дома папа – ветеринар, мужчина сильный и молодой.
Когда много парней провожают одну девушку, хулиганы не нападают. Массовых драк они не любят. Они предпочитают бить. И по возможности лежачего.
После репетиций мы шли провожать Лилю. По дороге забредали на кладбище. Там сидели на могилах, рассказывали при свете луны разные истории из жизни покойников. Испытывали нервы. Посматривали на Лилю – как она относится.
Лиля относилась довольно спокойно и даже иронически. Как, впрочем, ко всему на свете.
Была она старше Мити. И намного, чуть не на два года, старше меня. А в таком возрасте два года – это же пропасть! Да и по всему было видно, что Митю она предпочитает. Кроме того, он готовился стать героем, а я всего лишь простаком…
Но дело в том, что, миновав пору отрочества и переболев всеми детскими болезнями в мире, я стал усиленно расти. Я рос ежедневно и помногу. Все брюки мне становились коротки, рубашки узки, ботинки малы. А Митя расти перестал. Он оказался ниже меня сперва на полголовы. Потом на голову. Потом на шею и на голову.