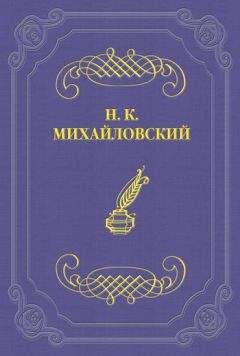Тем не менее, когда через несколько времени, вследствие плохих дел, закрылся книжный магазин Владимира Курочкина и прекратился «Книжный вестник», я был, разумеется, глубоко огорчен. Я уже настолько вошел во вкус литературной работы, что жить без нее не мог, а работать негде было. «Современник» и «Русское слово» не существовали. Курочкин попробовал издать колоссальный альманах «Невский сборник»{35}, куда попала и моя статья, но дальше одного выпуска это предприятие не пошло. Появились объявления об издании нового журнала «Дело» под редакцией Шульгина, и я, памятуя свое знакомство с Шульгиным по «Якорю» (?), отправился к нему, захватив с собой «Книжный вестник» как образчик моей работы. Шульгин разъяснил мне, что он лишь ответственный редактор, а ведется «Дело» Благосветловым, которому он и передаст мои статьи. Познакомившись с ними, Благосветлов встретил меня чрезвычайно любезно, но мы очень скоро разошлись, даже не разошлись, а расскочились. Я слишком мало знал Благосветлова, чтобы составить о нем достаточно полное и определенное мнение. Кратковременные наши отношения выяснили мне только одну сторону его характера – какую-то необыкновенную грубость, аляповатость всего, что он говорил и делал. Аляповаты были его любезности, аляповат был если не образ мыслей его, то по крайней мере способ их выражения, но всего, конечно, аляповатее были его ядовитости, с которыми мне пришлось очень скоро познакомиться. Мы уговорились, что я буду писать в «Деле» литературное обозрение и возьму на себя всю библиографию. В одно из моих посещений Благосветлова я застал у него молодого человека с огромным лбом, живыми глазами, быстрыми речами, быстрыми движениями. Это был Д. И. Писарев, которого я видел тут в первый и в последний раз. Входя в кабинет, я еще слышал конец какого-то запальчивого разговора. «Ты погоди, что ты ультиматумы-то ставишь?» – говорил Благосветлов. «Ты знаешь, что я всегда так», – резко отвечал Писарев. Разговор был прерван моим появлением. Когда Благосветлов назвал меня Писареву, тот, пожимая мне руку, быстро спросил: «Переводчик Шекспира?» Он принял меня за моего почти однофамильца, Д. Л. Михаловского, известного поэта. Я говорю «нет». «Так кто же вы?» – «Никто»{36}. – «Как Одиссей?» Вмешался Благосветлов и стал говорить в похвалу мне столь аляповатые слова, что я затрудняюсь их приводить. Может быть, сверх своей аляповатости во всем Благосветлов имел в данном случае еще специальную цель. Как я узнал впоследствии, между Благосветловым и Писаревым происходили в это время очень острые недоразумения, к составу которых относился, вероятно, и «ультиматум» Писарева. Писарев уходил из «Дела» и действительно скоро ушел, о чем имеется обстоятельный рассказ в воспоминаниях Н. В. Шелгунова{37}. Весьма возможно, что, не в меру восхваляя меня, начинающего, совершенно неизвестного писателя, и пророча мне в присутствии Писарева блестящую будущность, Благосветлов имел в виду повлиять на Писарева в нужную ему, Благосветлову, сторону или по крайней мере сорвать зло: дескать, и без тебя найдутся талантливые сотрудники. Сколько я понимаю Благосветлова, это на него похоже. Если, однако, у него и было подобное, хотя и бессознательное побуждение, то на Писарева его слова, во всяком случае, не произвели предположенного впечатления. Он, видимо, был очень занят каким-то своим делом и, с любопытством посмотрев на меня, без особенной горячности, но очень добродушно пожелал мне успеха; затем, заявив Благосветлову, что будет ждать его ответа в такой-то срок, ушел. Больше я с ним не встречался. В начале 1868 года он поместил несколько статей в возрожденных «Отечественных записках», но меня тогда еще там не было{38}, а в июле 1868 года Писарева не стало.
Не помню наверное, была ли напечатана хоть одна моя статья в «Деле»{39}; во всяком случае, если и была, то именно только одна, и без подписи. Не помню также, в чем состояло недоразумение, по поводу которого я написал Благосветлову письмо и получил от него ответ якобы ядовитый, а в сущности, грубости необычайной. Мне оставалось только кратко уведомить его, что не нахожу возможным продолжать работу в его журнале. Позже мы у кого-то встретились, и он начал разговор на ту тему, что «вы человек горячий, я человек горячий» и т. д. Помнится, что и свидание это было не совсем случайно, что нас сводили по его желанию на нейтральной почве, но, во всяком случае, соглашения не произошло. Благосветлов навсегда остался в моей памяти одною из самых несимпатичных фигур в литературе (разумею литературный персонал, мне известный; есть литературные сферы, с которыми я никогда даже не сталкивался). Его всесторонняя аляповатость слишком била в глаза даже такому молодому человеку, каким я был тогда, а его достоинств я за кратковременностью знакомства разглядеть не успел. Надеюсь, что они были, эти достоинства, но, признаюсь, мой личный опыт не дает мне возможности понять, как могли с ним долго ладить некоторые из сотрудников «Русского слова» и «Дела», люди тонкоделикатные и вместе с тем полные чувства собственного достоинства. Дело не в том, что он загребал жар чужими руками и нажил большое состояние трудами даровитых и убежденных сотрудников, доживших или доживающих свой век почти в нищете. Это обыкновенная предпринимательская история, да и Благосветлов все-таки нес много черной работы по ведению журнала. Из воспоминаний Н. В. Шелгунова и из его же биографического очерка, приложенного к сочинениям Благосветлова, видно{40}, что Благосветлов работал страшно много над чтением и выправкой рукописей, над корректурами, сношениями с цензурным ведомством и т. д. Очевидно, это был человек чрезвычайно энергический, быть может, в нем были и другие привлекательные стороны, но я успел узнать его только с той стороны, которую и повторительно не умею иначе назвать, как аляповатостью.
Я должен предупредить читателя, что помимо отдаленности времени, о котором идет речь, у меня вообще очень плохая память на цифры. Не ручаюсь поэтому за хронологическую точность и последовательность моего рассказа. Помнится, лето 1867 года досталось мне особенно тяжело{41}. Курочкин жил тогда на даче на Черной речке, а мне уступил мезонин в две комнаты. На том же дворе занимал маленькую дачу Н. А. Демерт{42}, впоследствии (с 1869 по 1874 год) писавший внутреннее обозрение в «Отечественных записках», а тогда еще только намеревавшийся стать постоянным литературным работником. У Демерта, недавно приехавшего в Петербург, водились деньги, конечно, небольшие; у Курочкина их было гораздо меньше, а у меня совсем не было, и, если бы не Курочкин, мне приходилось бы частенько голодать в буквальном смысле слова. Но и у всех дела были плохи, так что, когда однажды к нам явился П. А. Гайдебуров с предложением принять участие в газете «Гласный суд»{43}, мы ухватились за это предложение руками и ногами. Но прежде чем рассказать об этом водевильном эпизоде, я припомню кое-что из времяпровождения на Черной речке.