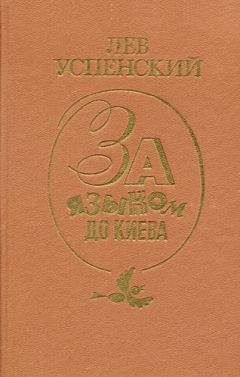От двери он пошел к полке, где стояли его книги, взял одну, раскрыл, постучал согнутым пальцем по открытой странице.
— В каждой такой книге — частица моей души, частица сердца. Я каждый раз перед выходом моей книги испытываю нечто такое, что и не объяснишь толком. Страх — не страх, но что‑то сродни ему: ведь ты как бы стоишь распятый перед толпой. Читатель скользит по строчкам глазами, будто по живому режет. Я это чувствую. И если нахожу в книге, когда она уже вышла, слабые, а главное, — написанные не совсем искренне строки, у меня сжимается сердце. Болит, будто по нему ножом полосонули…
Нина Сергеевна перебила его мысли:
— Пора! Пора дать гостю отдохнуть.
Он глянул на часы и как бы спохватился:
— И впрямь. Я‑то в машине подремывал, а ты работал за рулем…
Оставшись один, я прошелся по комнате раз — другой. Вышел на веранду. Огней в городе заметно поубавилось, и мне показалось, что ночь словно придвинулась. На небе звезды. Крупные. Не такие, какие у нас в Краснодаре. Воздух потому что чистый. Я пред
ставил себе, как сюда на веранду выходит передохнуть Анатолий Дмитриевич. Что‑то он думает. А может, просто любуется пейзажем. Стоит бездумно, ждет, когда на взбудораженной душе улягутся бури, вызванные воспоминаниями. Чтоб через время снова сесть за письменный стол с намерением перечитать написанное, может, поправить что‑то, а может… скомкать и выбросить в корзину исписанный лист. И так много — много раз. Долгие, долгие годы…
Почему‑то на ум пришли воспоминания, как однажды мы вернулись с моря. (Было и такое — мы иногда и отдыхали вместе, семьями.) После ужина занялись каждый своим делом. Знаменский почитывал книгу Романа Гуля. Моя жена Рая углубилась в стихи Есенина. Очень любит стихи Есенина! Потом возник общий разговор. Рая и спрашивает Знаменского:
— Так Есенина убили, или в самом деле он наложил на себя руки?
Знаменский отложил книжку. По всему было видно, что он готов поговорить на эту тему.
— Ты посуди, Рая, сама. Вот читаю Гуля. По его свидетельству, Есенин, будучи в Германии, кричал, в подпитии, конечно, у Дома аэроклуба: «Не вернусь в Москву!.. До тех пор, пока Россией правит Лейба Бронштейн…». То бишь — Лев Троцкий. И тот ему не простил. Достал его. Сын Троцкого Яков Блюмкин, убийца посла Мирбаха, провокатор, вертелся в литературных кругах, они буквально выследили Есенина. Они шли за ним по пятам…
— Это что, в Литинституте вам об этом говорили? — пораженный его словами, спросил я.
— Нет, конечно. В Литинституте я учился во времена Хрущева. Когда раскручивали так называемый «культ личности Сталина». Сталина во всем обвинили. Не Сталин виноват. Сами они и виноваты. Моими университетами был лагерь. Там мне помогли во всем разобраться. Там все четко знают.
Этот разговор происходил в те жуткие времена, когда разорение и разграбление СССР называлось сначала перестройкой, потом реформированием.
— Интересно, как теперь «преподают» в лагерных «университетах»? — этак ненавязчиво спросил я.
— А вот так и «преподают». Там называют вещи своими именами. Это точно. Мы здесь лицемерим и все надеемся, что лихо это недолговечное. Что как‑нибудь рассосется. Нет! Не рассосется, господа русский народ! Потому что… — он вдруг поднял глаза на портрет Шолохова, висевший у меня над письменным столом. — Счастливчик! Не дожил до этих черных дней. При таком — сяком Сталине жил. Правду писал. А теперь поди ты напиши правду. Кому она нужна? Ведь они все так хитромудро закрутили, что народ уже ничего не может понять. А нашего брата — интеллигенцию — с грязью смешали, нам нет веры…
Знаменский постучал по столу карандашом и, вдруг улыбнувшись, как если бы что‑то вспомнил, иронически молвил:
— Новая история России!.. — помолчал горестно. — Видно, прав был Наполеон Бонапарт, когда сказал: «История — это продажная девка, которая спит всегда в постели победителя». А кто у нас нынче победитель? Что сегодня, о чем кричал бы Есенин? У власти снова троцкисты… Ведь на улицу страшно выйти. Все перевернули с ног на голову, — он кинул о стол книгу. — Ты посмотри, что они творят!.. — он хотел еще что‑то сказать и задохнулся. Видно, его возмущению не находилось уже слов.
Ушел из жизни Анатолий Дмитриевич, словно бросил вызов равнодушным: «Думаете само собой рассосется? Нет, не рассосется…».
До сих пор мерещится тот поздний вечер: наговорившись, мы сидим и молчим…
Александр Мартыновский
А. Д. ЗНАМЕНСКИЙ В МОЕЙ ТВОРЧЕСКОЙ СУДЬБЕ
«Когда бывает мне нелегко, и мысли отягчаются печальными раздумьями, я достаю из папки статью Анатолия Дмитриевича о моем романе «Оборотни», перечитываю ее и словно бы слышу ободряющий голос его»
Взаимоуважение между нами проявлялось постоянно, и ровность эта сохранилась до его кончины. Мое уважение невольно возрастало и все более укреплялось по мере того, как я все глубже познавал его писательскую и человеческую сущность. Осознание незаурядной, яркой личности возникло с первого знакомства с его произведениями.
Я всегда старался читать его новые публикации, но и Анатолий Дмитриевич, как я открыл для себя, не был равнодушен к моим. Приведу такой пример.
В 1982 году Краснодарским краевым книжным издательством была выпущена в свет моя повесть «Трудное поле». Напереживался я за нее предостаточно! Вскоре состоялась презентация ее в Славянском училище механизации сельского хозяйства с участием краевого телевидения. Что‑то вроде этого было и на Белореченском химкомбинате по инициативе краевого «Общества книголюбов».
Мне было приятно осознавать определенный успех. Хотя повесть в издательстве трижды сокращалась. Первый раз — в ходе редактирования. И тут я как начинающий автор не возражал, так как видел, что и правка и сокращения были в подавляющей части обоснованными и пошли на пользу повести.
Шли дни. И вот в одно из посещений издательства редактор В. Недушкин с широкой улыбкой сообщил мне:
— Знаменский в «Доне» похвалил твое «Трудное поле»!
Выражение его лица при этом говорило примерно следующее: вот видишь, сам Знаменский похвалил твою повесть. А ты тут бушевал…
Это известие меня порадовало: мое творчество привлекло внимание большого писателя. Меня одолевало жгучее желание побыстрей прочесть эту статью.
Из статьи Анатолия Дмитриевича о начинающих прозаиках Кубани, где он положительно отозвался о Ротове, Пошагаеве, я все же приведу ту часть, которая касается меня: «…Хотел бы еще упомянуть здесь успешный дебют в прозе Александра Мартыновского, работника краевой Сельхозтехники. Человек на производстве дорос до руководящей должности, знает жизнь и отношения людей из первых рук, отнюдь не понаслышке. Она его беспокоит, иногда озадачивает, и он обращается к перу. Хорош был у него рассказ «Пароконные хода», затем написал он повесть о рисоводах, об освоении плавней, нравственном совершенствовании сельского труженика, пахаря и сеятеля».
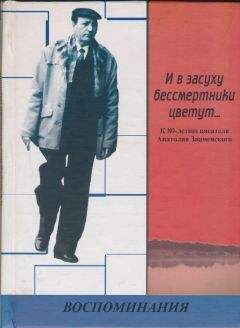
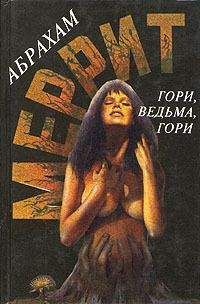
![Абрахам Мэррит - Гори, ведьма, гори! [Дьявольские куклы мадам Мэндилип]](https://cdn.my-library.info/books/82328/82328.jpg)