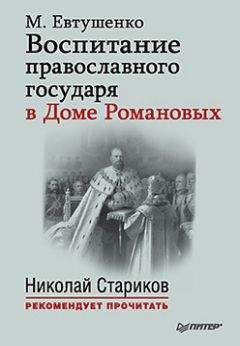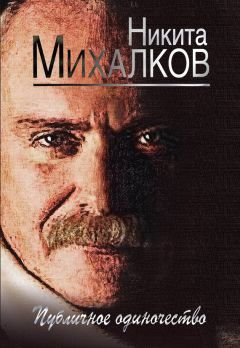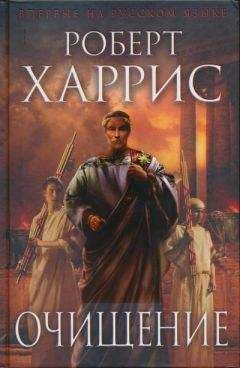Тогда Катилина решил отправиться в Этрурию, передав заведование делами в Риме Лентуллу и Цетеггу, из которых первый был в том году городским претором. Узнав об этом, Цицерон решил дать Катилине генеральное сражение. Он опять распространил слухи о злодейских умыслах заговорщиков, говоря, что двое из них – сенатор Варгунтей и всадник Корнелий – приходили к нему утром на поклон с целью убить, но нашли его предупрежденным и недоступным, и созвал специальное собрание сената в храме Юпитера Зиждителя – на почтительном расстоянии от города и... опасной городской толпы, – куда пригласил и Катилину. Все было подготовлено к тому, чтоб угостить его так, как некогда угостили Гракхов, и Цицерон взял на себя инициативу. Как только мятежник, как бы не подозревая об имеющей разыграться комедии, вошел в сенат, почтенные мужи совета демонстративно покинули скамью, на которую он сел, и оставили его одного. Поднялся Цицерон и, дрожа от патриотического негодования, произнес свою знаменитую “Первую речь против Катилины”. “До коих пор Катилина намерен злоупотреблять нашим терпением? – загремел он, к величайшему восхищению своих коллег. – Разве он не знает, что все его умыслы и планы известны сенату и консулам так, как если бы они присутствовали на тайных совещаниях его и его сообщников? Разве он не знает, что слух о готовящемся поджоге города и избиении именитых сенаторов ходит по устам, вызывая негодование у всех, в ком живы еще добрые нравы, заповеданные великими предками? Разве Варгунтей и Корнелий не приходили к нему, Цицерону, сегодня же утром с целью убить его? Разве у него нет войска в Этрурии, набранного из гнуснейших подонков общества? Чего же он медлит? Зачем он остается в городе? Или он хочет дождаться участи, какая постигла Гракхов и Сатурнина, – участи, которую, впрочем, он заслужил уже давным-давно? (Увы! сенат не понимает намека и не трогается с места.) Пускай же он лучше убирается из Рима подобру-поздорову, пока шкура цела”. Он советует ему это сделать немедленно же, он требует этого во имя республики и сената, он умоляет его ради счастья и благоденствия римского народа...
Слова эти имели большой эффект, но все же не такой, какого ожидал Цицерон: Катилина оставил курию, не проронив ни слова, а сенаторы ограничились лишь яростными криками да объявлением осадного положения по формуле: videant consules. Преступник опять вышел невредимым из логовища врагов, и перуны консула пропали даром. По-видимому, однако, и сам Цицерон-громовержец был более храбр на словах, нежели на деле, потому что его совет Катилине бежать из Рима – совет, как он отлично знал, совершенно излишний – может быть объяснен лишь желанием избегнуть неприятной необходимости арестовать заговорщика и тем самым рисковать своей жизнью.
Катилина уехал в ту же ночь, а Цицерон, облеченный специальными полномочиями, принялся за дальнейшее искоренение “крамолы”. Без сомнения, он знал всех и каждого из друзей Катилины поименно и в лицо, он знал даже, где они встречаются и что намереваются предпринять; но вместе с тем он понимал, что делать на них открытое нападение без юридических доказательств в руках было бы делом несколько рискованным. Но напрасно объявляет он награды тому, кто сообщил бы ему сведения о действиях “заговорщиков” и доставил бы ему доказательства их преступности: никто не откликается, потому что заговора, собственно говоря, и не было, и народная масса симпатизировала Катилине больше, нежели сенату. Но того, чего Цицерон не мог добиться деньгами, ему удалось достичь благодаря бестактности самих катилинцев, потерявших в лице уехавшего вождя своего наиболее способного руководителя и организатора.
В Риме находились тогда послы от галльского племени аллоброгов, прибывшие с жалобою на своего наместника. Долго не получая удовлетворения, они были сильно раздражены против сената и охотно вступили в тайные переговоры с Лентуллом, обещая ему помощь для свершения coup d'etat. Вскоре, однако, они одумались и чистосердечно признались во всем своему патрону. Цицерон немедленно был оповещен о случившемся, и дело устроилось так: под предлогом, что их соотечественники не поверят одним словесным обещаниям, хитрые послы потребовали от Лентулла письменного договора и, заполучив его, отправились к Катилине в Этрурию за ратификацией. По дороге, однако, на них напали сенатские посланцы и отобрали документы. Больше Цицерону и не надо было: он немедленно созвал сенат в храм Согласия, вытребовал к себе Лентулла и Цетегга и, уличив их при помощи документов и свидетелей, велел их арестовать. 4 декабря на заседании сената были определены награды доносчикам, а 5 было проведено, по предложению Катона и Цицерона и при грозной оппозиции Цезаря, решение казнить заключенных без дальнейшего суда и апелляции. В сопровождении ликторов и громадной толпы сенаторов и всадников Цицерон собственноручно отвел осужденных в подземную Капитолийскую тюрьму и здесь приказал их задушить во славу сената и республики.
Это был финал всей истории: с удалением Катилины в Этрурию и смертью его главных сподвижников гидра революции была раздавлена, и благонамеренный Рим мог вздохнуть спокойно. Его уже больше не тревожил кошмар поджогов и убийств, ему уже больше не угрожала опасность переворотов и конфискаций, и он мог по-прежнему вести тучную жизнь за счет пота и крови италийского народа. Правда, в Капуе, Этрурии и других местах действовали еще инсургенты, но и они мало-помалу слабели за недостатком дисциплины и организации. Оставшись один с горстью верных друзей, Катилина, наконец, пал при Пистории в 62 году. Он погиб геройской смертью, а с ним – все его товарищи до единого, – все, как с удивлением замечает Саллюстий, с ранами в груди и с выражением решимости в лице.
Так трагически окончилась попытка свергнуть железное иго сенатской олигархии. Попытка эта была не первая – ей предшествовали многие другие, оканчивавшиеся также плачевно; но она была предпоследней: знамя, выпавшее из рук Катилины, было поднято Цезарем, и аристократия погибла.
Но покамест Цицерон имел полное основание ликовать. Человек без предков и без связей, только что переменивший свое амплуа – homo novus во всех отношениях, он, благодаря исключительно своему таланту красно говорить, достиг высших государственных почестей и спас республику, то есть имущие классы, от неминуемой гибели. Признательность последних не знала пределов: забыв жалкую роль, которую они играли, не замечая банкротства, столь громко заявленного фактом спасения их выскочкою, они осыпали счастливого консула такими почестями, какими до него не пользовался ни один римский гражданин. Его приветствовали повсюду как спасителя родины; ему преподнесли и в сенате, и на форуме неслыханный дотоле титул отца отечества, и в честь его воссылались богам бесчисленные молитвы и жертвоприношения. Каждую ночь в течение долгого времени город иллюминовался как в праздник, и повсюду, где появлялась знакомая фигура оратора, раздавались бешеные рукоплескания и возгласы и составлялся почетный конвой из цвета аристократической молодежи. Цицерон сделался популярнейшим человеком в Риме, но эта популярность, как мы сейчас увидим, продолжалась недолго.