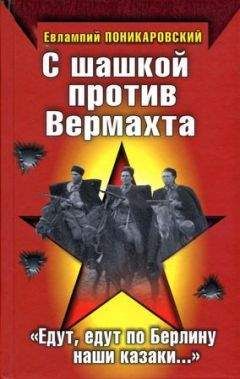Перед рассветом выходим к поселку Еникале, на берег Керченского пролива. Отходящие войска разбитого Крымского фронта здесь переправляются на косу Чушку, оттуда идут на Темрюк. К Еникале выходят и немцы. Кажется, от них нигде нет спасения…
По коже пробегает дрожь и сейчас, когда ненароком вдруг вспомнятся Еникале и переправа через пролив. Немцы бомбят поселок. Их самолеты днем и ночью висят над проливом. Из степи давят автоматчики.
По проливу туда и сюда снуют катера. Еникале — коса Чушка, Чушка — Еникале. В паузах, когда у причала нет катеров, кто-нибудь из отважных офицеров поднимается и громко объявляет:
— Товарищи! Давайте отгоним фрицев!
На зов откликаются сотни воинов. Они тут же стремительно карабкаются в гору, бесстрашно атакуют и отгоняют противника на два-три километра в степь, потом возвращаются к пристани. Немцы тоже возвращаются, но уже осторожнее — спесь на какое-то время у них сбита.
В одну из таких операций уходят и мои ребята во главе с сержантом Крутовертовым.
По берегу, по проливу, по поселку гуляет смерть. Для «косой» здесь раздолье. Весь берег усыпан трупами. Из пяти работающих на переправе катеров к исходу вторых суток остается два…
Я сижу и поглядываю на причал. Войск здесь сбилось много. Дойдет ли до меня очередь? Передо мной стоит грузовик. Около машины безотлучно находится ее водитель. Он тоже поглядывает на причал. Но у него, пожалуй, нет никакой надежды, что машину погрузят на катер. До машины ли, когда надо спасать людей? Шофер мог бы бросить ее где-то в степи, как бросали многие другие. Но, видно, не мог. Жалко. Может, он вместе с машиной был мобилизован в армию из какого-то колхоза. Что он потом скажет своим односельчанам, когда вернется домой?
Шофер задумчиво ходит вокруг грузовика, насвистывая мотив старинной сибирской песни «Славное море — священный Байкал». Вот он носком сапога стучит по скатам, вот осматривает радиатор, вот гладит капот, как крестьяне гладят холку коню. Потом, остолбенев, долго смотрит на пролив. С его языка срывается уже не свист, а сама песня: «Славное море — священный Байкал, славный корабль — омулевая бочка…» Фразу об омулевой бочке он повторяет несколько раз. И вдруг, словно о чем-то догадавшись, решительно подходит к кабине, рвет дверцу на себя и оттуда, из кабины, выкидывает спинку и сиденье. Достает домкрат, кривой гаечный ключ, монтировку, насос.
Мне интересно наблюдать за шофером. Я пытаюсь понять его поступки и действия. Он же, подмигнув мне, начинает снимать задние колеса. Откидывает одно, принимается за другое. Вывертывает ниппеля. С шипеньем и свистом из баллонов выходит воздух. Шофер усердно действует монтировкой. Вытащив камеры, накачивает одну из них. До меня вдруг доходит весь смысл работы шофера.
— Друг, — окликаю я, — уж не персональный ли катер себе готовишь?
— Так точно! — весело отвечает шофер. — Если при крайней нужде какая-то омулевая бочка может стать кораблем, то почему камера не может стать катером?
Одна камера накачана. Шофер принимается за другую. «Видно, запаску готовит. Предусмотрительный парень». Но шофер отрывается от насоса и смотрит на меня.
— Слушай, батя… Один персональный катер могу уступить тебе. Двинешь на этом катере… к самой едрене матери, — шофер скалит зубы. — До Чушки доберешься. Лично я рассчитываю добраться.
Я боюсь воды. Но предложение шофера настолько заманчивое, что у меня вдруг появляется желание двинуться на «катере», пусть даже и к «едрене матери». С отчаянной лихостью я говорю:
— Качай. Согласен!
Не проходит и получаса, как «катера» наши готовы. Шофер помогает мне добраться до воды. Раздеваемся, разуваемся. Шофер надевает на себя баллон. Некоторое время смотрит на пролив, на низкую косу Чушку и со словами: «Эй, баргузин, пошевеливай вал» — кидается в воду.
Я медлю. Потом из кармана гимнастерки перекладываю в фуражку партийный билет, другие документы. Фуражку нахлобучиваю на голову, ремешок с нее опускаю под подбородок. В карман брюк — их я оставил на себе — перекладываю печать несуществующего 343-го ОПАБа. Наган в кобуре вешаю на ремешке через плечо. Теперь я готов в путь. И тут как прострел: а что, если мой катер-поплавок пробьют пулей? По телу пробегают мурашки. Плыть, не плыть? А, будь что будет. Двум смертям не бывать, а одной не миновать. Я залезаю в поплавок и отталкиваюсь от берега.
Плыву медленно, с передышками, устают руки. Где-то на середине пролива ко мне просится «пассажир».
— Выдыхаюсь, братец. Дай немножко отдохнуть.
Он руками держится за поплавок. Я работаю руками. Потом парень начинает работать ногами. Скорость нашего движения заметно прибавляется.
— Ты уж держись до конца. Смотришь, и доедем.
Пока мы плыли, трижды на бреющем пролетал «мессер». Я опасливо косился: саданет или не саданет по поплавку? Не саданул. Бил, гад, по катерам, как бочки сельдью, набитым людьми. Часа через полтора-два мы причалили к берегу на косе Чушке. Надо же! Я верил и не верил такой удаче. Но ведь вот она, милая Чушка. Ох, как она хороша!
Не верится, что и мне удалось одолеть это водное пространство шириною более 4 километров.
«Пассажир» помог мне выйти из воды. Тут мы с ним и расстались. Я, намочив раненую ногу соленой водой, растравил ее и почувствовал себя совсем худо. Решил дождаться какого-нибудь транспорта. И — опять удача! Подошла машина. Может, даже мой «пассажир» позаботился обо мне. Я до слез растрогался: сколько же хороших людей в нашей армии, в нашем государстве.
Через полчаса я был в Темрюке, в комендатуре. Здесь, на медпункте, промыли мне ногу, перевязали и уложили в постель — спи! Целые сутки я беспробудно спал.
Отоспался я знатно. Любой солдат мечтает о трехстах минутах, чтобы подавить ушко. А тут целых 1440 минут, да не на сырой земле, а на кровати и в чистой и мягкой постели. Отоспался за все прошлое и, кажется, кусочек от будущего отхватил.
Теперь надо доложиться коменданту. Только вот мой наряд не очень бравый. Натянул штаны, надел фуражку — и все. Недостает самой малости: гимнастерки, нательной рубахи, ремня, шинели и сапог. Ну да ладно, хоть стыд прикрыт. Иные совсем голенькими являются. Главное — батальонную печать нигде не посеял и свои документы сберег. Все честь по чести.
С палкой в руках предстаю перед комендантом. Он глядит на меня с усмешкой. Небось думает: «Ничего себе, вояка». Мне обидно, но обиды своей не выказываю. По-всякому люди перебираются через пролив. Кто с полным комфортом, кто умывшись кровью, а кто… Словом — переправа. «Кому память, кому слава, кому темная вода…»
В комендатуре нашлась кое-какая одежонка. Мне выдали солдатскую гимнастерку, сапог на правую ногу, ремень. Теперь, вновь оглядев меня с ног до головы, комендант не усмехался. Вид мой был божеский.