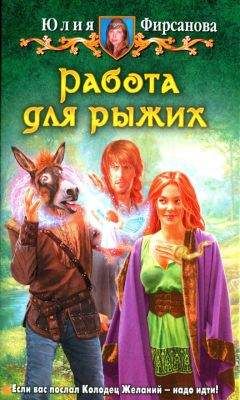Мне вообще-то страшное не снится. Я всегда по вечерам молюсь, чтобы не снилось ничего такого. Я только помню, давно, мне было четыре года, я увидела на кухне огромный нож с пластмассовой ручкой. Она была вся зеленая, в белых разводах. Бабушка резала этим ножом мясо, а на лезвии оставалась кровь. Я убежала в свою комнату и спряталась под стол. А ночью мне приснился этот нож и что будто бы за мной с ним гонялись разные люди.
Мне все утро хотелось сирени – синей и белой.
Я пошла в школу, а в коридоре наткнулась на Людмилку. Она была в белой кофточке, и сквозь нее просвечивал лифчик в красный горох. Наши, как увидели, так покатились прямо в коридоре. А Людмилка услышала и застеснялась входить в класс. Она отвернулась к окну в коридоре, а уже пять минут шел урок. Тогда все наши стали по очереди выбегать в коридор и спрашивать:
– Людмила Кирилловна! А расскажите про строение пчелы!
А сами пялились на лифчик.
И никому не было жалко ее за то, что она такая худая и рыжая, что у нее лифчик в красный горох…
А когда совсем стал кончаться май, мы перестали ходить к деду, потому что стало жарко. Мы только иногда приносили молоко, но в квартиру уже не заходили, а подавали через порог. Дед говорил нам только: «Никто ко мне не ходит, даже сын…», и еще говорил, что ему прибавили пенсию на десять рублей… Я помню, зимой мне всегда наливали молоко, прозрачное, с голубой каемкой от воды по краю чашки, а сейчас оно загустело…
Мы с Зойкой часто прыгали в резинку во дворе. Дед Аполлонский уже не выходил во двор сидеть со стариками, и поэтому здороваться стало неинтересно. Мы с Зойкой прыгали в резинку под его окнами. Еще с нами была Таня Афонасик. Толстая. Младше нас на год. Когда она прыгала, у нее тряслись ноги. Я этого сначала не заметила, мне про это сказала Зойка. Я ей не поверила, но она говорит:
– Ну давай возьмем ее с нами. У нее дрожат ноги от прыжков. Ты посмотришь.
И вот как раз прыгала Таня Афонасик, топоча ботинками, а Зойка мне сигналила глазами, чтобы я смотрела, но мне было не до Тани. Я с тоской думала, что сейчас прыгать придет моя очередь и как я буду прыгать, когда на мне желтые панталоны на толстых резинках? Когда пришла моя очередь, я стала прыгать, натянув юбку на коленях, чтобы Зойка с Таней не смеялись, а Зойка мне говорит:
– Оля, Оль, ты что, в панталонах?
Я уже собралась ответить, что нет, но вдруг обернулась назад: у окна стоял дед Аполлонский, смотрел, как мы прыгаем. Он увидел, что я на него смотрю, замотал головой и потянулся к раме, чтобы открыть.
Я крикнула:
– Здрасте, дедушка!
Но он, как раньше, стал показывать пальцем на уши, что он не слышит, и с треском раскрыл окно. Он крикнул мне:
– Что ты сказала?
– Здрасте, дедушка!
– А, – говорит, – а то я смотрю на вас, вижу, что вы со мной разговариваете, а не слышу ничего.
– Мы ничего вам не говорили, – сказала я. – Мы просто прыгали. Вам показалось!
Дед нам сказал тогда, что никто к нему не ходит и что он скоро умрет, а на государственный счет его, наверное, не похоронят. Мы промолчали в ответ. Мы тогда еще не умели наврать, что придем. Дед не знал, что нам еще сказать, поэтому мы стали прыгать дальше.
Моя бабушка как-то купила картошку на остановке «3оопарк». Такую черную, в комьях земли. Она сидела на кухне, чистила ее, и у нее совершенно почернели руки, а картошку, всю побелевшую, она кидала в воду. Она мне сказала:
– Там, в сумке… Я купила тебе два абрикоса.
Я достала их из сумки – они были в полиэтиленовом мешочке, к нему прилипло чуть-чуть земли… Их было два. Два желтых рыхлых абрикоса, и каждый из двух половинок. Один был с розовым бочком, слегка помятый, так что половинка съехала набок, а другой покрепче, в коричневых точечках. Я съела их оба. С жадностью. Даже облизала горьковатые косточки, а потом вытерла руки о кафель на кухне. А потом бабушка увидела желтые разводы на стенке и очень меня ругала. У меня абрикосовый запах впитался в пальцы, и бабушка мне сказала:
– Мы в июне поедем на юг. В Сочи. Там такого много.
Я стала ждать июня. Я даже Зойке не говорила.
Я помню тот день. Жаркий майский день. Последние дни перед июнем. Мы с Зойкой вчера наломали сирени и принесли домой по букету. Нас ругали. Грозили штрафом. Моя бабушка поставила синие ветки в банку с водой, на кухню, на подоконник, к абрикосовым косточкам и луку в банках.
Мне Зойка сказала:
– Сейчас деда повезут, – и показала на автобус у подъезда.
– Какого деда?
– Да нашего… Аполлонского…
– Куда повезут? – спросила я и тут же подумала про юг. – А я в июне поеду в Сочи. Там всего много…
– А в Москву ты уже не поедешь?
– В Москву позже…
– Сейчас, сейчас его вынесут… – сказала Зойка.
– Кого вынесут? – спросила я.
– Ну кого-кого! Ну, деда нашего! Понятно тебе? Аполлонского! Он умер недавно… Хочешь поближе посмотрим?
Я не поверила сначала, но мы подбежали к маленькому автобусу у подъезда. Я заглянула: стоял венок из бумажных цветов, веяло жарой и сиренью. Тогда мне все стало ясно. И тут дверь подъезда открылась, и два мужичонки в костюмах вынесли деда в гробу. Я прищурилась слегка, чтобы лучше рассмотреть, который из них его сын, но ни один из них на сына не походил даже отдаленно. А мне так захотелось, чтобы все было, как мечтал дед, и я решила узнать. Я спросила у тех, кто нес гроб, на государственный ли счет хоронят деда Аполлонского. Но они прогнали нас с Зойкой и крикнули, что у нас нет совести. А мы очень волновались. А когда деда пронесли мимо нас, то я увидела, что он совсем не изменился, только глаза у него были закрыты и не было очков. А потом из подъезда вышли старики в костюмах, но не те, что на лавочке, а другие, я их не знала. Они несли на подушечках дедовы награды.
Даже тот орден, который Зойка лизнула, он тоже лежал на подушечке. А потом выходили музыканты и люди с сиренью. Не было других цветов. Одна сирень. Она тогда росла всюду, ее все ломали. Она тогда росла всюду, только отодвинь ветку, еще одну, а третья – обязательно сирени. Она заполнила весь жаркий автобус, и все люди с сиренью не поместились. И музыканты не поместились тоже. А деда все равно не было видно из-под крышки, поэтому плакать как-то не хотелось. А все старики держали подушечки с орденами на коленях, как будто бы это их ордена. И когда автобус медленно поехал, музыканты пошли следом и медленно заиграли, и люди с сиренью тоже пошли, роняя сирень.
А я все волновалась, я спросила у Зойки:
– Как же все-таки его хоронят? На государственный счет?
– Да, – сказала Зойка, тоже волнуясь, – надо бы узнать! – Еще она сказала: – Цветов много!
И мы пошли с ней, поднимая сирень из майской пыли…