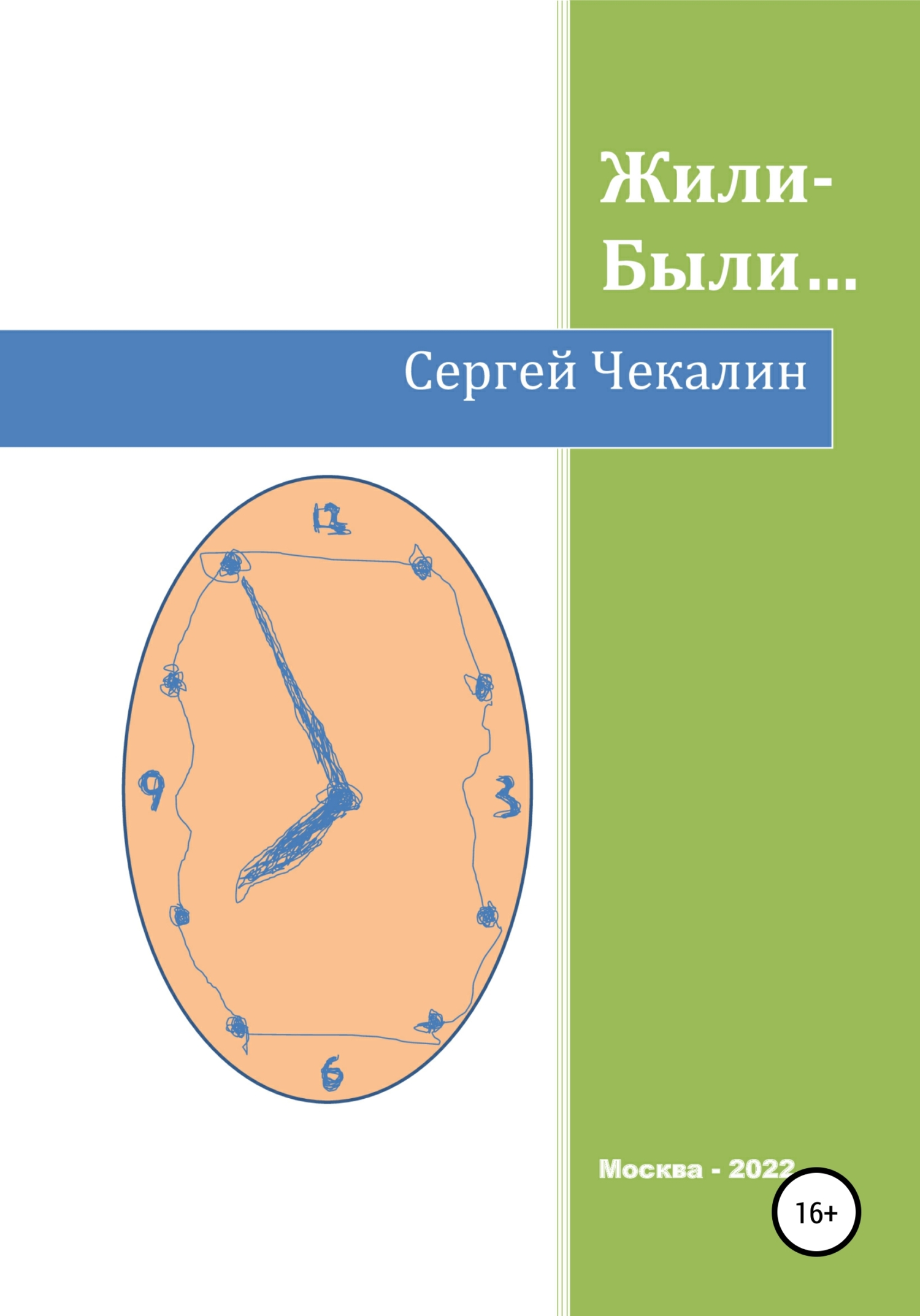30 к.».
Шурке бабушка сказала:
— Вот, теперь ты можешь говорить, что нашёл десять рублей, и тебе бабушка на них купила саблю.
Теперь Шурка ходил по деревне героем, с саблей на боку, на зависть всем друзьям-мальчишкам. Да и было чему завидовать: красные пластиковые ножны, в них блестящее алюминиевое лезвие с пластиковой ручкой, а к ножнам прицеплен с двух концов настоящий кожаный тонкий ремешок. Прямо хоть в командиры назначай…
И другое, что тоже осталось в памяти.
1962 год. В мае месяце умерла бабушка Маша. А летом к нам приехали все долгопрудненские: тётя Шура с дядей Пашей и Ирой, тётя Маруся с Шуркой, а своего тогдашнего мужа, дядю Колю Пашкова, она с собой не взяла. Родители её в этом даже упрекнули. Но он через два дня явился, сам доехал, по адресу. Утром бабушка Вера выходит на улицу, а к дому подходит мужик, спрашивает Чекалиных, где, мол, такие живут.
Помню, что долгопрудненцы привезли с собой чуть ли не два мешка батонов белого хлеба, который мы потом называли «по тринадцать копеек», сушек, баранок, конфет. Может быть, и ещё что было, но из всего этого «ещё» запомнилась копчёная селёдка. Душистая такая и вкусная невообразимо какая. В наш магазин такой товар никогда не привозили.
Послали гонца в Троицкие Росляи, к Фёдору Васильевичу Выгловскому, маминому крёстному, брату бабушки Маши. На следующий день он приехал на тарантасе, но не один, а вчетвером. С кем, не помню, но точно была его дочка Юля, огромного веса тётенька. Как она говорила — «семь пудов». Все за столом не поместились. Детей (Мишу, меня, Валю, Иру, Шурку и кого-то из приехавших с Фёдором Васильевичем), естественно, не сажали, нас отправили обедать на крыльцо, а мама с бабушкой и отец — прислуживали гостям, подавали-принимали.
Какие разносолы были на столе — не помню. Только что помню просто гору сырников и миску сметаны. Потому, вероятно, и помню, что Юля «семипудовая» поедала их в большом количестве. Уж тётя Шура ей сказала:
— Юля, ну куда же ты так много ешь? И так, вон какая полная!
На что Юля ответила:
— А я прямо не могу не есть, всё время голодная! Никак не остановлюсь.
Тарелок отдельных никому не ставили, да их в таком числе вряд ли у нас и было. Ели горячее (первое) и второе (что было не сырники, а мясное) из одной миски. Бабушка с мамой только успевали подливать и подкладывать, а отец распоряжался с бутылками. По случаю таких высоких гостей самогонку не ставили (а она у нас и в Красном Кусте была практически бесперебойно, отец тайно и с большими предосторожностями делал там этот продукт), только водку и портвейн (для желающих). За спиртным в магазин не бегали, поскольку у нас дома всегда (да и до сих пор) было магазинное спиртное. Это ещё повелось с той поры, когда мама работала продавцом в нашем деревенском магазине. Ящик с вином и водкой стоял под кроватью родителей. Но тогда в нашей семье можно было не беспокоиться за его сохранность. Это уже значительно позже, после службы в армии, стал выпивать Миша. Мама потихоньку начала выпивать ещё с Красного Куста, примерно с 1965 года, когда отец уехал добывать новое место жительства в Московской области, а уже в Узуново она пристрастилась сильно к выпивке (они, продавцы в магазинах, часто устраивали застолья прямо на работе).
(Но Миша — настоящий герой, у него оказался очень твёрдый характер: он в одночасье бросил выпивать, окончательно и бесповоротно. Думаю, уже лет тридцать пять этим не занимается, даже чуть-чуть. Хотя в их доме, в Подхожем, не переводятся спиртные напитки, в том числе — самостоятельного изготовления. Надо сказать, что эти напитки весьма вкусные, как вино, так и что-то покрепче. И до сих пор. Вот недавно, летом 2020 года, мы ездили к ним за мёдом. Надя, жена Миши, нам с Мариной дала попробовать поллитра своего виноградного вина, из своего винограда. Нам очень понравилось.)…
Но продолжу о приезде долгопрудненских. Дня через два все гости и часть из нас пошли половить рыбки на Пичаевский пруд, который недавно образовался в связи со строительством плотины. Миша пошёл к своему другу, деревенскому охотнику и рыболову, Авилову Ивану Тарасовичу, а в обиходе — Таращу. Взял у него бредень. Пошли большой шумной компанией: дядя Паша, Миша, дядя Коля Пашков, я и Шурка. Женщин с собой не взяли, как сказал дядя Паша: «Чтобы не спугнуть рыбу».
Помню, что всю дорогу к Пичаевскому пруду хохотали, глядя на пушистые пятки дяди Коли. Дело в том, что прямо перед нашим походом прошёл дождь. Дядя Коля приехал в босоножках и на босу ногу. Носки, заштопанные нитками из козьего пуха, ему дала бабушка. Шли лугом, по мокрой траве. Заштопанные части и распушились, стали мохнатыми. А на обратном пути добавилось и другое. Рыбы в пруду не оказалось, не завелась ещё по молодости пруда (так что и отсутствие женщин в нашей компании, как оказалось, совсем не могло нам помочь), но зато бреднем вытащили гору головастиков, многие даже уже и с ножками, полулягушки. Дядя Коля, увидев их, бросился собирать в ведро с водой, приготовленное для рыбы:
— Какие налимчики маленькие!
Тем дело и кончилось, пушистыми пятками да налимчиками в виде головастиков и нашим весёлым смехом при возвращении домой…
Немного расскажу и о дяде Коле Пашкове. Он был очень добрый и мягкий человек, как, впрочем, и первый её (тёти Маруси) муж, Шведов Николай Николаевич, родом из почти ближней деревни с названием Хорёвка (на картах Менде — Харёвка; получается некоторое разночтение: то ли от животного хорёк, то ли от слова харя). Нашим всем он, Пашков Николай, очень нравился. Тётю Марусю, я уже об этом сказал выше, даже укоряли в первый день, что не взяла его с собой. А вот за что его невзлюбил Шурка, не знаю, даже и в голову не приходит ничего вразумительного. Дядя Коля хорошо к нему относился, старался быть больше даже, чем отцом. Но взаимности не было. Дядя Коля просто стоически терпел выходки Шурки, и продолжал бы терпеть, если бы тётя Маруся с ним не развелась…
Собралось нас, с приездом долгорпрудненских, двенадцать человек. Ночевать в дом бабушки Маши никто не пошёл. Нас, мальчишек, Мишку, меня и Шурку, положили на полу в горнице, мы с Мишей по краям, а Шурка — в серединке. Все Живилковы, дядя Паша, тётя Шура и Ира, спали в