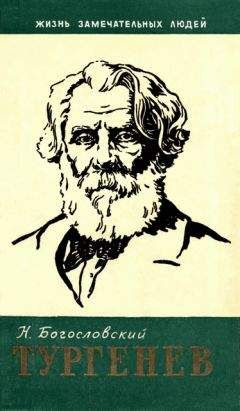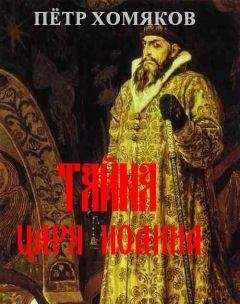Чтение заняло два вечера и прошло с необыкновенным подъемом — все единодушно признали роман новой огромной удачей автора.
Петербургские писатели, слушавшие «Дворянское гнездо», собираясь после этого чтения на литературных обедах то у Гончарова (в канун нового года), то у Некрасова (2 января), продолжали подробно и оживленно обсуждать новый роман.
Многие предсказывали Тургеневу, что его ждет овация со стороны читателей, но никто не предвидел, какой она примет характер по выходе журнала.
Впоследствии Тургенев и сам отметил в предисловии к романам, что «Дворянское гнездо» имело самый большой успех, который когда-либо выпадал на его долю.
Из последовавших многочисленных критических откликов значительный интерес представляют высказывания Писарева и Добролюбова.
В пору написания статьи о «Дворянском гнезде» Писареву было девятнадцать лет, однако его разбор романа отличался редкой зрелостью и самостоятельностью мысли, глубиной и мастерством анализа.
Он показал, что в произведениях Тургенева очень силен национальный колорит и велико всестороннее знание русской жизни, притом не книжное, а вынесенное из действительности. В «Дворянском гнезде», которое Писарев назвал самым стройным и законченным из созданий Тургенева, это знание, по мнению критика, выразилось особенно ярко.
Писарев указал, что «в положении главных действующих лиц, в самой завязке романа много горькой жизненной истины» и что тема «Дворянского гнезда» не могла не возбуждать в сознании передовых читателей протест против понятий, принятых в обществе и освященных временем.
Уже в этой ранней статье критика отмечена главная особенность и своеобразие писательской манеры Тургенева, избегавшего обнаженных приемов и подчеркнутого задания.
Заключая свои рассуждения о романе, Писарев говорит: «Как истинный художник, Тургенев не мог и не должен был высказать свою мысль резко: он показал в личности Лизы недостатки современного женского воспитания, но он выбрал свой пример в ряду лучших явлений, обставил выбранное явление так, что оно представляется в самом выгодном свете. От этого идея автора не бросается прямо в глаза. Ее надо искать, в нее надо вдуматься, но зато она тем полнее и неотразимее подействует на ум читателя».
Добролюбов не выступил с развернутым разбором «Дворянского гнезда», вероятно, по причинам. о которых уже говорилось выше. Не подвергая анализу роман, высказываясь о нем лишь мимоходом, он, как и Писарев, отметил, что «самое положение Лаврецкого, самая коллизия, избранная Тургеневым и столь знакомая русской жизни, должны наводить каждого читателя на ряд мыслей о значении целого огромного отдела понятий, заправляющих нашей жизнью».
Добролюбов не стал расшифровывать, что он подразумевал под огромным отделом понятий, но нет никакого сомнения, что речь шла о религиозно-моральных устоях тогдашнего общества.
Революционные демократы единодушно признали большую идейную ценность и исключительные художественные достоинства «Дворянского гнезда».
Салтыков-Щедрин говорил, что после прочтения таких произведений легко дышится, легко верится, тепло чувствуется.
Светлый, чистый образ Лизы, глубина патриотического чувства Лаврецкого, которого Писарев назвал «сыном своего народа», непревзойденные по красоте описания русской природы — все это позволило критике безоговорочно отнести «Дворянское гнездо» к разряду классических произведений русской литературы.
Непредвиденный и странный эпизод отчасти омрачил тогда радость Тургенева по поводу успеха его романа. Виновником этого оказался Гончаров.
На протяжении долгого времени он делился с Иваном Сергеевичем своими творческими планами и замыслами. Ценя критическое чутье Тургенева и доверяя его литературному вкусу, он охотно читал ему свои произведения то целиком, как «Обломова», то в отрывках, как то было с «Обрывом». Этот роман был пока еще почти весь в замысле, и даже само название его не установилось окончательно — сначала Гончаров думал озаглавить его «Художник».
Иногда за разговором Гончаров принимался с увлечением рассказывать Тургеневу задуманные сцены, эпизоды и главы, как бы отдавая их на проверку тонкому знатоку и мастеру.
В такие минуты он говорил волнуясь, торопливо, отрывисто, сам захваченный красотою встававших перед ним картин родной Волги, обрывов, заросших бурьяном, рисовал сцены свидания Веры с Волоховым в лунные ночи на дне оврага и в саду, ее прогулки, разговоры с Райским…
Кристаллизовались замыслы Гончарова всегда очень долго, сложно. Он сам признавался, что любая вещь вырабатывалась у него в голове медленно и тяжело, поэтому писались его романы с необычайной медлительностью и были отделены один от другого десятилетиями.
Эта особенность Гончарова стала одной из причин его авторской подозрительности. Первая открытая вспышка ее проявилась тотчас же после чтения «Дворянского гнезда».
Как только чтение закончилось и со всех сторон посыпались похвалы автору, у Гончарова от волнения сжалось сердце.
Прежде Тургенев был в его глазах непревзойденным рассказчиком, миниатюристом и автором небольших повестей, теперь вдруг с таким успехом, даже триумфом выходил на поприще романиста.
Гончарову показалось, что в «Дворянском гнезде» и в планах его собственного будущего романа, о котором столько было разговоров с Тургеневым, есть ряд схожих ситуаций и фигур, несколько совпадающих мотивов, что именно по канве его изустных рассказов Иван Сергеевич набросал сжато и кратко лучшие места в своем романе.
Дождавшись, пока разойдутся гости, Гончаров начал свои объяснения, заявив изумленному Тургеневу, что прочитанная повесть представляется ему слепком с романа «Обрыв».
В дальнейшем разговоре Гончаров упорно настаивал на сходстве некоторых деталей в «Дворянском гнезде» и в планах «Обрыва».
Тогда Тургенев со свойственной ему мягкостью и уступчивостью согласился даже устранить из своего романа сцену второго объяснения Марфы Тимофеевны с Лизой, показавшуюся Гончарову похожей на аналогичный эпизод объяснения Веры с бабушкой в «Обрыве».
Но это было ошибкой со стороны Тургенева: успокоив на время возбуждение Гончарова, он вместе с тем дал ему повод считать необоснованные подозрения хотя бы в какой-то мере оправданными.
Несмотря на размолвку, Гончаров по-прежнему продолжал встречаться с Тургеневым, хотя отношения их стали заметно суше и сдержаннее.
Время от времени Гончаров возвращался к наболевшей теме. Тургенев, желая положить этому конец, предлагал передать вопрос на решение третейского суда. Но Иван Александрович уклонялся, ссылаясь на то, что подобное дело может подлежать лишь суду двух совестей, а что свидетели тут не нужны и вряд ли возможны.