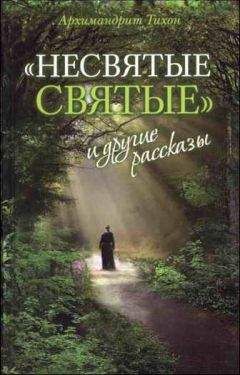Пока у него была возможность управлять внутренней жизнью монастыря, тот процветал, а когда он прекратил это делать, то обитель утратила своё прежнее величие. Следы, оставленные отцом Иерофеем, отчётливо видны повсюду: и во внешней деятельности монастыря, и в духовной. Его мужественный характер всему давал дыхание и жизнь. Он избегал случайных разговоров с мирскими людьми. Его немногих бесед с ними оказалось достаточно, чтобы наладить отношения между монастырём и миром. Любимым предметом разговоров были для него монахи и монастыри.
На богослужении он всегда стоял прямо, как корабль посреди вод. Когда он кадил, громыхая звонцами кадила, то лицо его терялось среди клубов дыма ладана, которого он не жалел (в то время как отец Дамиан предпочитал каждение бесшумное и почти бездымное). Голос у него был совершенно немелодичным: он был подобен шуму великих вод и будил любителей подремать на службе.
Трудился он постоянно и неутомимо. Однажды во время одного из моих посещений монастыря я услышал молитву, звучавшую как будто из бочки. Я посмотрел кругом и увидел, что старец наклонил огромную бочку для вина, забрался в неё и скоблил стенки.
– Отец Иерофей, ты что, до сих пор работаешь?
– Молю Бога дать мне здоровья, чтобы я мог работать, а у младшей братии благодаря этому оставалось бы больше времени для чтения и молитвы.
Незаметно для других он трудился также для двух женских монастырей Пароса. Во все великие праздники он служил в монастыре Дасос с большим вниманием и чувством ответственности. Помогал он также на строительных работах в Фапсанском монастыре. Несмотря на свой возраст, он работал лопатой и мастерком энергичнее других рабочих. Но когда он увидел, что женские монастыри начали удаляться от монашеского предания, то стал называть их «туристическими лаврами». Как-то ему показали фотографии из женского монастыря, на которых было большое Распятие, украшенное камешками и цветочками. Увидев их, старец сказал: «Эти несчастные до сих пор не отреклись от мира».
А песен, которые пели монахини[198], он и вовсе не желал слышать. Он настаивал на том, что монашество – это такое внутреннее состояние и внешний порядок, которые соответствуют мужской природе. Ему хотелось, чтобы монашество оставалось древним и традиционным.
В последние годы жизни от многих трудов у него начали дрожать руки, но и тогда он старался хоть что-то ими делать. Он не умел быть сладеньким, и поэтому изнеженные люди называли его суровым и жестоким. Но, несмотря на то, что после его кончины прошло уже много лет, на монастыре до сих пор лежит неизгладимая печать его трудов.
Жизнь в Лонговарде сурова: там не до шуток. В вино аскезы там не доливают водичку, но всегда пьют его неразбавленным.
Подушкой для отца Илии были шалфей и чабрец, а одеялом – фисташковые деревья и кусты можжевельника. Он сеял, жал и молотил, копал землю, сажал деревья, обрезал ветви и собирал виноград, пас овец, доил их и делал из их молока сыр, чтобы у монастыря были хлеб и вино, маслины и оливковое масло, молоко и сыр. Этот маленький ростом монах, как и все другие монахи-земледельцы, в буквальном смысле оставил свою плоть и кости на принадлежащих монастырю горных склонах. Те из соседей монастыря, которые не отличались благочестием, часто с завистью говорили: «Богат монастырь», – но не замечали того, благодаря чему он был богат. Монахи один рядом с другим возделывали каменистую почву острова. Такая земля может приносить урожай, но для этого с ней нужно много чего сделать, а часто, несмотря на все усилия, она даёт намного меньше, чем получает. Земледелец – это человек, всегда живущий надеждой.
Как-то раз я зашёл в келью к отцу Илии.
– Батюшка, у вас вся келья почернела. Её бы побелить.
– Я, сынок, не знаю, какого она цвета: двадцать лет я возвращаюсь в неё ночью и ночью выхожу.
Одним летом мы праздновали Преображение в домовой церкви семьи Драгаци. На обратном пути он увидел, что каменная стена, ограждающая монастырское поле, в одном месте обвалилась. Он сказал мне: «Бери священные сосуды, садись на мула и отправляйся в монастырь. Я починю стену и приду в монастырь к трапезе».
И действительно, лишь только раздался последний удар малого колокола, созывавшего на обед, в монастырь поднялся обливающийся потом отец Илия, чтобы успеть к общей трапезе. В монастыре было и такое правило: в праздник все должны присутствовать на общей трапезе. Монастырский устав нужно исполнять в точности и относиться к нему с благоговением. Для того чтобы в киновии жизнь оставалась размеренной, каждый должен прилагать большое старание. Являться вовремя в церковь, на трапезу, на послушание – всё это требует труда. Хорошие монахи во время исповеди называли и такой грех: «Нарушал устав монастыря», – чего я никогда не слышал от молодых. После трапезы мы с отцом Илиёй сели на деревянную кровать в его келье.
– Отец Илия, то, что Вы после всенощной и литургии остались чинить стену, это не слишком? Её мог бы починить кто-нибудь другой.
– Дорогой мой Манолис, «кто-нибудь другой» – это всегда я: и сегодня, и завтра. Я уже много лет живу в монастыре, но никогда не искал кого-нибудь другого.
– Да, но если бы Вы поранили руку и пролили на камни свою кровь, разве это было бы хорошо?
– Эта кровь, сынок, прогнала бы беса, и он никогда уже не мог бы спокойно находиться рядом с этой стеной.
Я получил этот урок в 1957 году и помню его до сих пор. Благодаря ему я, слава Богу, избавлен от пагубного осуждения моей братии («Кто оставил здесь этот горшок?» – «Это я забыл его вчера.» – «Убери его, и не жди кого-нибудь другого, кто сделал бы это за тебя»).
В храме отец Илия служил очень просто: он служил для того, чтобы служить. Его голос был не очень красив, в нём были слышны жалобные нотки, но это было не из-за его постоянной усталости, а оттого, что он видел, что молодые монахи не питают любви к своей матери-земле и не хотят трудиться своими руками. Если бы он был жив сегодня, то увидел бы чудо, совершённое по его молитвам над нашим братством[199].
Я часто спрашивал его о годах немецкой оккупации и о том, как немцы держали его в тюрьмах на материке, но он в ответ говорил всегда одно и то же: «Бог да простит того, кто меня предал».
У отца Илии был особенный дар от Бога смотреть людям в глаза: не похотливо, не лукаво, не испытующе, но кротко и мирно. Одним лишь взглядом он передавал другому человеку своё состояние, так что тот даже не понимал, откуда оно у него появилось. Такой дар мне редко встречался.